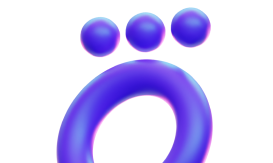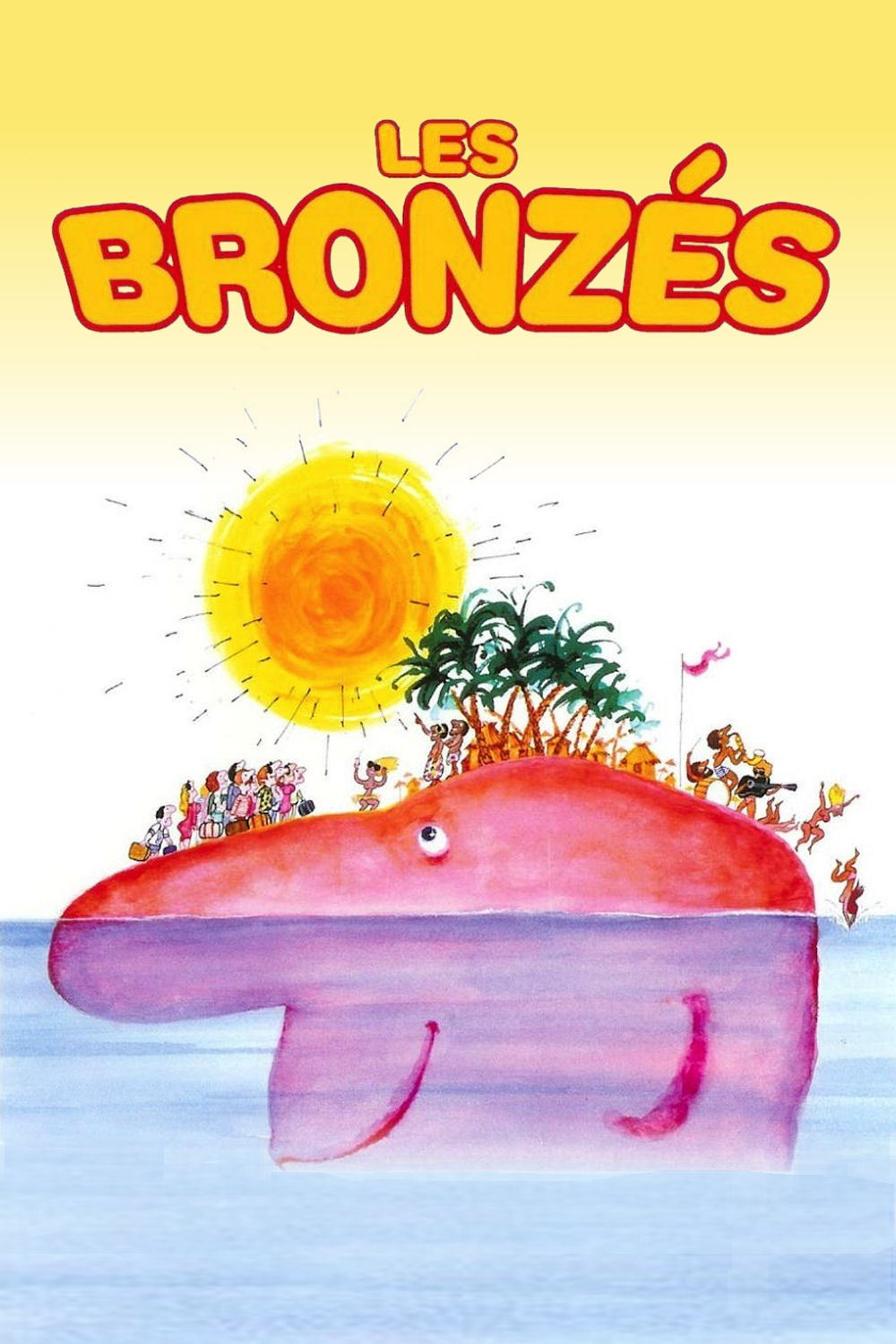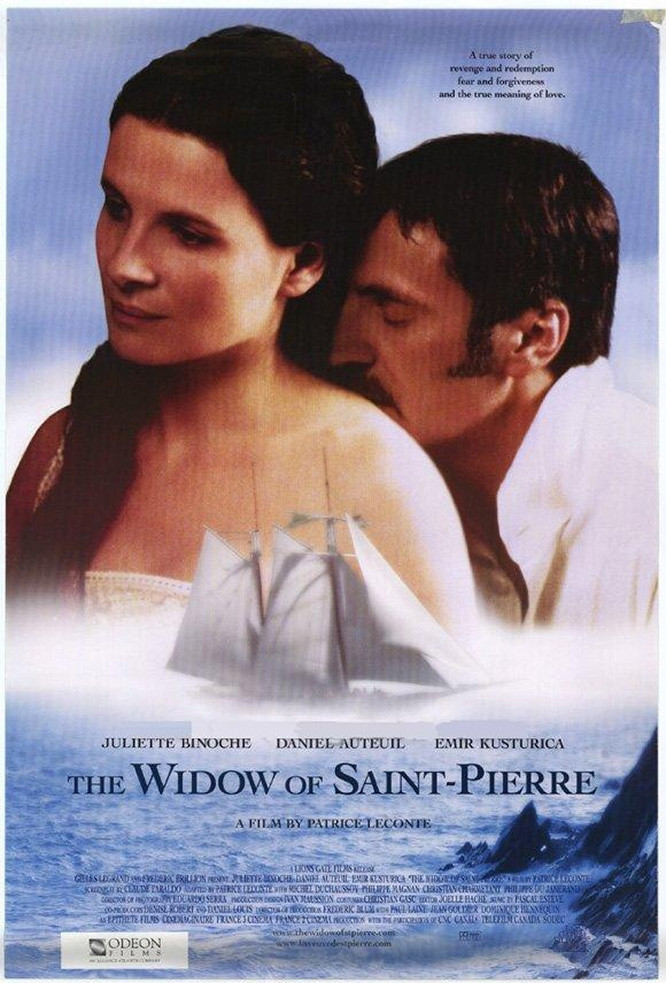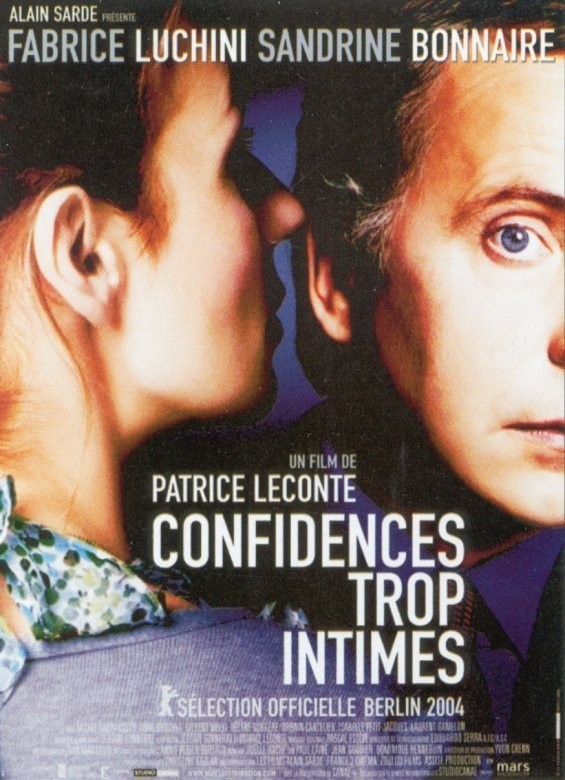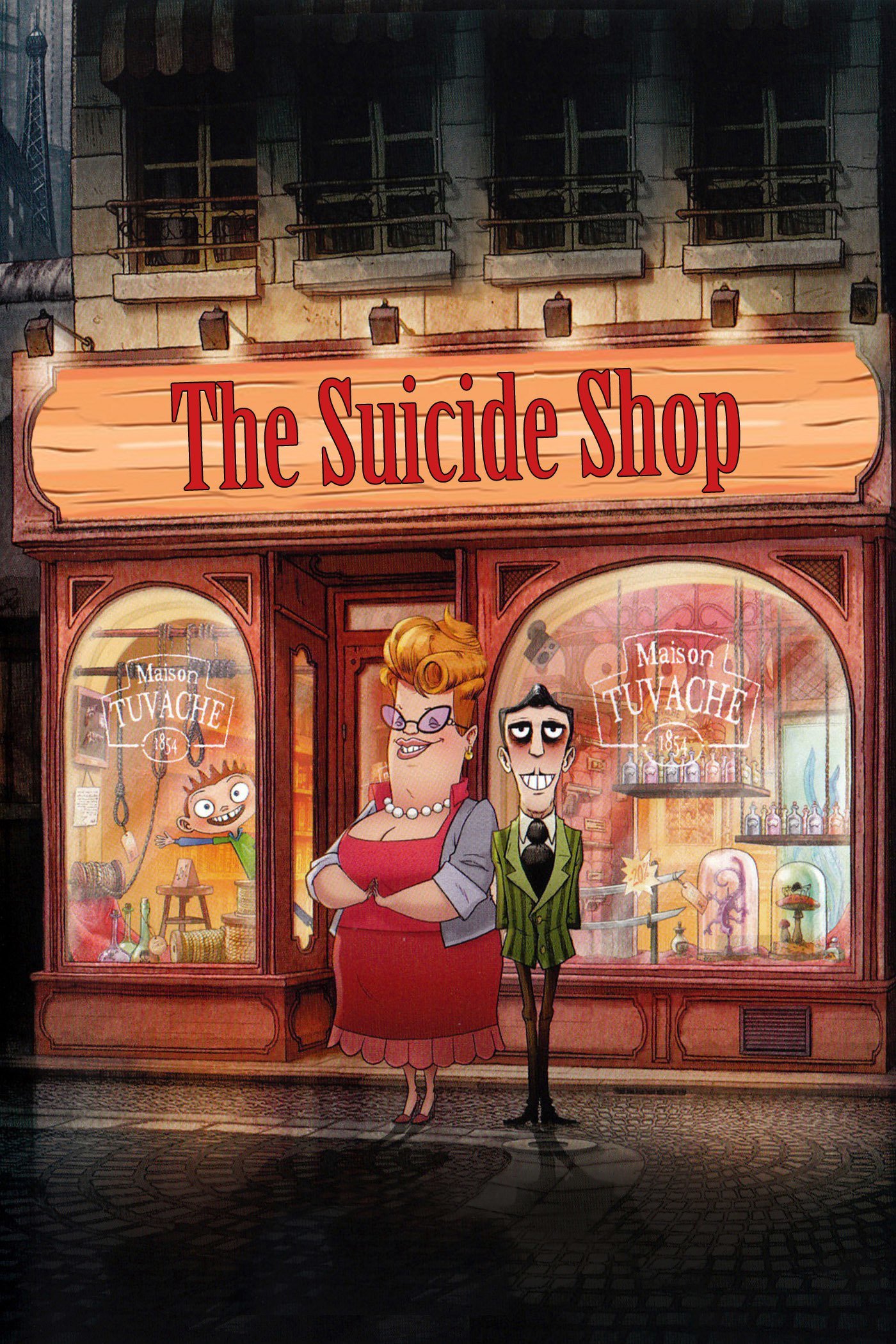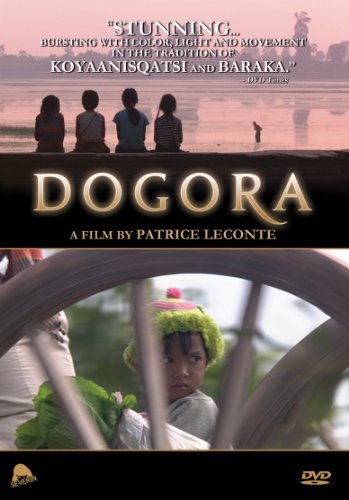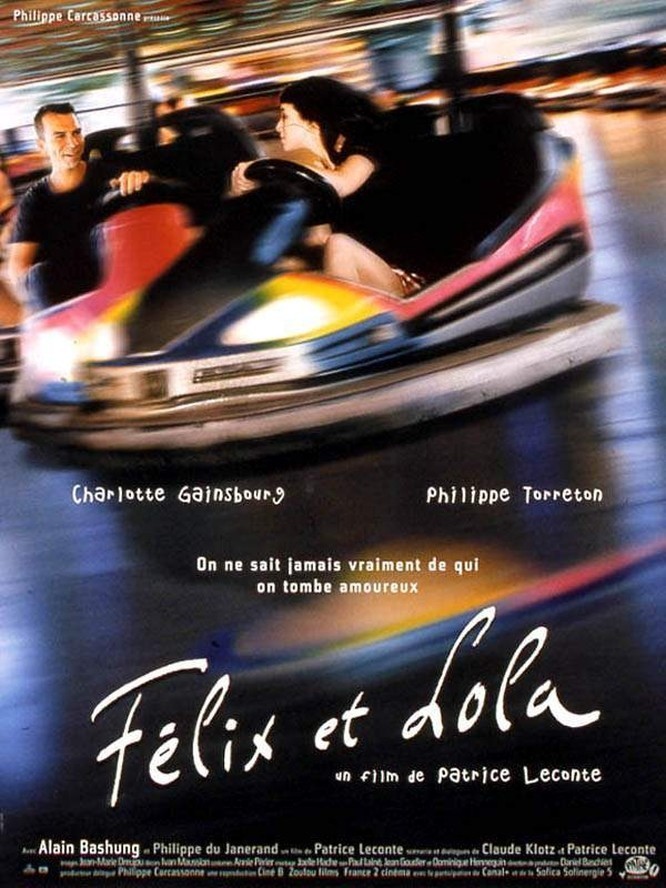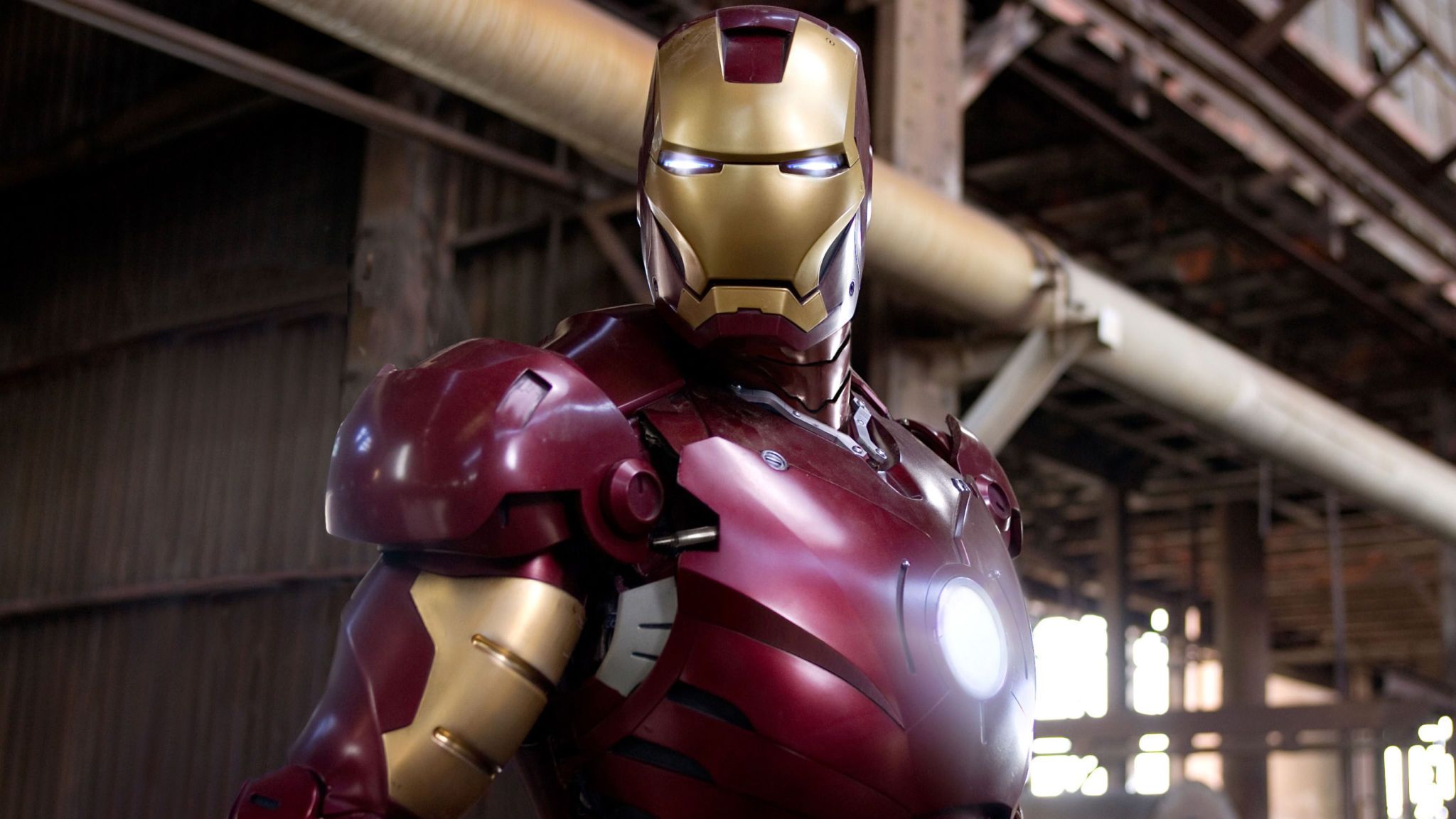Фильм Насмешка
Ridicule, Франция, 1996
Другие фильмы Патриса Леконта
Участники
Рекомендации для вас
Популярно сейчас
Как вам фильм?
Отзывы

Если бы Людовик XV был хотя бы отчасти тираном, и вовремя оттяпал бы головы большинству энциклопедистов, вероятность появления в финале эшафота стремилась бы к нулю. Это тезис. Антитезис звучал бы примерно так: если бы даже всех деятелей Просвещения перевешали, революция все равно бы произошла, и если бы Вольтера не было, его следовало бы выдумать! – голод, нищета, все дела, да и у Господа Бога были на нас планы, и по графику в 1789 году стояло: «Развязка. Много трупов. Гамлета уносят со сцены вперед ногами». Синтез предложил умница Лихтенберг, сначала поклонник, потом яростный хейтер революции: «Что мне особенно не нравится в способе разрабатывать историю,— так это то, что во всех поступках видят намерения и все события выводят из намерений. На самом деле это совсем неверно. Величайшие события происходят совершенно непреднамеренно; случай исправляет ошибки и расширяет сферу действия умно задуманных предприятий. Величайшие события в мире не делаются, а происходят». Толстой, большой поклонник Лихтенберга, много страниц в «Войне и мире» исписал, кажется, примерно на ту же тему. На самом деле, истина где-то посередине. И фильм «Насмешка» ее ни в коем разе не озвучивает, там революция вынесена за скобки, где-то за финальными кадрами стучит лезвие гильотины и летят отрубленные головы принцесс. Если все же учесть, что «Насмешка» снята французами, пожалуй, единственной нацией, которая относится к своему кровавому прошлому с пиететом (плюс большевики, почитавшие якобинский террор, но это немного другая тема), и соответственно вычесть из фильма революционно-демократическую тенденциозность, то в сухом остатке на донышке будут лежать сверкающие драгоценные камушки, в блеске которых можно на мгновение уловить ускользающую правду о причинах кошмара на яву.
Воздушная (рифмуется с «бездушной»), искусственная, сверхутонченная, тепличная культура, в которой столетие выращивались дорогие грибы, на поверку оказавшиеся ядовитыми, похожими на бледные поганки – такова прелюдия к кровавому финалу, проигрыш её, по-видимому, прозвучал даже задолго до эпохи Регентства, которая лишь окончательно ввела в светскую оранжерею метафизику остроумия, то, что простаки-англичане всегда звали словом wit. Впрочем, к царствованию Людовика XVI высокомерные французы, обогнавшие островитян в остроте ума на полкорпуса, презрительно называли британские попытки пошутить вялым словом «хьюмо». Ни один исследователь эпохи не пройдет мимо факта «иссушающей четкости языка, его отказа от всего неправильного и незаурядного, от излишеств и самодовольства», который поэтому сделал французский язык всеевропейским, и чуть ли не убил в итоге в нем все живое. Хороший вкус, фарисейское машинальное благочестие, когда и молитвы можно произносить на автомате, и проповеди проговаривать фиглярским театральным языком. Безразличие к себе, к другому, к Богу (которого нет), и трепетное, маниакальное внимание к мелочам светского этикета и тонкостям остроумной фразы. Джакомо Казанова, оказавшись впервые во Франции (который в первом издании своих мемуаров – «спасибо издателям»- был большим поклонником 1789-го, а после издания оригинала оказался тем, кем и должен был оказаться: ненавистником революционно настроенного быдла), удивился, как известный драматург сначала все писал стихами, потом переписывая в прозу: ради все тех же тонкостей, которые понятны и нужны только истончившимся культурам, уже неспособным создать ничего великого: римлянам поздней античности, французам на излете декаданса, и нам с вами. Яростная, нескончаемая интеллектуальная мастурбация, какой-то иронический невроз, псевдочувствительность к малейшему ветерку трепетных анемон – и вместе с тем иссушающее влечение к наркотически-дурманящим наслаждениям, только чтобы иглой моды, иглой новинки-диковинки, иглом дикаря-новичка уколоть себя больно, и хотя бы на время прогнать анемию, вымораживающую жизнь в бесчувственную белизну. Как какая-то искусно настроенная струнка, звенящая при любом прикосновении, но не способная дать ни одной другой ноты, и которую надо вечно теребить, чтобы она не замолкла мертвенно, и которая лишь колеблется из стороны в сторону, на пару миллиметров отклоняясь от навеки прямой линии – и которая если ее все же хорошенько натянуть, когда-таки все осточертело, может разве что лопнуть и полоснуть по горлу незадачливого музыканта до смерти.
Как язвил нигилист Чоран по поводу незадачливой терпимости последних Людовиков к свободолюбивым бунтарям-энциклопедистам – это «отличительный признак немощи, кокетство умирающего». И припечатывал: «В конце блестящего просвещенного века возвышался эшафот, конец истории, скорее всего, будет украшен чем-то более грандиозным». Я всякий раз задумываюсь над разницей, что называется, произведений искусства истории и произведений искусства человеческого. Если смотреть ту же «Касабланку» или «В джазе только девушки», то можно смело быть уверенным, в конце нас не ждет кровавый фарс. Если бы зрители «Унесенных ветром» или «Огней большого города» - внезапно (как оно на самом деле всегда и происходит в действительности, только гораздо позже, ретроспективно разграфленной кропотливыми исследователями на причинно-следственные связи) – оказались ошарашенными зрителями того, как Скарлетт О’Хара или Чаплину в финале оттяпывают бошки, они бы устроили демонстрации протеста, в лучшем случае – кассовый провал. Произведение искусства должно быть цельным, если комедия, так уж комедия, трагедия, значит трагедия. Трагикомедия? Ок. Только пусть не превращается в фильм ужасов, а хоррор во второй своей части не обращается ромкомом. Постмодерн постмодерном, но зачем же стулья ломать? Здесь очень тянет вспомнить Шекспира, но даже у этого нахала в комедиях финалы комедий, в трагедиях финалы трагедий. Сложно представить (но после чумового XX века можно, конечно), чтобы Основа устроил всем кровавую баню, а Беатриче всходила на эшафот. Не то история! Уж на что я ненавижу эпоху Просвещения, ненавижу до дрожи и вообще XVIII век, и революцию в частности, но, несмотря на эту ненависть (и, наверное, именно поэтому) я и люблю его, и любовь моя к нему какая-то безответно-нежная, подростковая, прыщавая. Как к какому-нибудь фрику, страшному до усрачки, но в то же время страшно очаровательному. Как к автоматону, который двигается, ходит «как живой», и потому он любопытнее и привлекательнее, чем живые. И меня всегда зачаровывало, каким канзасским ураганом принесло туда эшафот? Ведь если бы революции не случилось, сорок историков написали бы сорок увесистых занудных монографий о том, почему этого не произошло тогда-то, а произошло, скажем, в 1918 году. Но она произошла раньше – и восемьдесят историков торжествующе написали восемьдесят увесистых и еще более занудных монографий о том, почему она не могла не произойти, а задаваться вопросами «почему?» в ее случае уже все равно как задаваться вопросами, почему вода течет именно с горы в долину, а не наоборот. Начинаясь как «Укрощение строптивой» и «Двенадцатая ночь» эпоха закончилась выносом Гамлета вперед ногами, тотальным лировским безумием, макбетовским гран гиньолем и трогательной смертью Марии-Антуанетты, которая призраком является во всех причино-следственных связях, якобы приведших корабль туда, где его сожрал большой и белый китяра, но остается также невесома и загадочна, как мнимая вина девочки Джульетты в вековой ссоре двух семей.
Если не брать во внимание марксизм, который везде видит причинно-следственные связи классового порядка, и примерно представлять себе общую картину (что французские низы бунтовали и века до, что и во времена Древнего Рима у городка в излучине Сены хозяйничали банды обнищавших галльских крестьян, что голодной была и Российская Империя, что нищета пожирала лондонскую бедноту), когда, при всех равных прочих, рвануть может где угодно и когда угодно, и вообще слишком много вводных, чтобы просчитать возможность революционного большого бадабума – то стоит ли брать во внимание религиозное измерение, и полагать испуганно-настороженно, что периодическую кровавую баню устраивают нам послушные слуги небесного владыки? Эпоха Просвещения и эшафот, если на минуту отвлечься от исторических умствований, по-настоящему похожи на большое классическое гениальное произведение искусства, виртуозно сочиненную оперу и мастерски из деталек сбитую механическую фигуру, двигающуюся как по нотам к своему концу, которого по идее быть – в человеческом произведении искусства классического порядка – не может. За минуту до взрыва… За минуту до взрыва может быть что угодно. Вот если только на мгновение пойти от революционной точки невозврата, то окажется, что там – за границей событий во всех смысла слова, за черными дырами, скоплениями галактик, за минуту до нового времени, до новой инерциальной системы отсчета – может и могло бы быть все, что угодно. Стоит себе дорогой особняк – ба-бах – и его нету. Стоит себе бедная хибара – ба-бах – и его нету. Стоит себе расфуфыренный аристократический восемнадцатый век – ба-бах – и его нету. Но до вот этого «нету» были и хижины, и особняки, и действовали какие-то причинно-следственные связи – и они ведь могли быть любыми, и хижина особняком, и особняк хижиной? Так может все дело в том, что он, этот надушенный остроумный автоматон, там что-то напортачил, тут же задумывается человек, стремящийся видить логику везде, как настоящий тайный марксист в душе – даже логику абсурда. Тогда как ее, этой логики, может и вовсе не быть.
Коррупция при дворе, безразличие властей к судьбам своего народа, всеобщий разврат – все это свойственно многим нациям в разные времена, без обязательной в финале катастрофы – и ощущение надвигающегося конца света, надвигающегося десятилетия, столетия, но никак не надвинувшегося. Это чувство знакомо было долгое время почти любому цивилизованному народу (которому есть что терять, ведь помимо цепей у многих есть хотя бы те же дети), и по идее, рано или поздно, всем должна была прийти в голову одна и та же мысль: что все так и будет продолжаться, ничего никогда не закончится, шутки, прибаутки, un mot, английский wit, "ридикюль", сегодня поздно вечером на оперу, а завтра принимаем русского посла. Что не то что конца света не будет, а вообще никакого конца не будет. Что смерть есть, но она далеко. Что Бога нет, а король близко – и если кто сдерет тебя шкуру, так это его вассалы, а уж никак не некие демоны второго и третьего легиона Люцифера. Тут, наверное, самое поразительное другое. Что, во-первых, конец света вообще не отменяется, а выносится за метафизическую скобку, в какое-то потустороннее измерение, или хотя бы вперед, на сто, а то и тысячу лет в будущее: расхлебывать потомки будут, а сейчас у меня для вас новая шутка! И, во-вторых, в действительном реальном настоящем сразу же, веерно, тотально отменяются все возможные финалы, от «судьба уже стучится в дверь» до самой маловероятной развязки событий. Маловероятной, да, но ведь не совсем невозможной? Слишком долго маячивший перед носом эсхатологический финал, отлетевший вдруг в вечность – разом обесценил и низвел до состояния «невероятого события» всю разом сморщившуюся реальность.
Французский восемнадцатый век, разумеется, только на первый взгляд выглядит как комедия, которая внезапно – не по правилам сценического искусства – закончилась шекспировской или еврипидовской резней. Можно предположить, что за плотными занавесями удушливых гостиных, с их мерцающими свечами, за надушенными до тошноты будуарами, с их запахом спермы, там, внутри, в потайных комнатах деловито стучали молотками, строгали доски, работали стамесками, и вытирали пот со лба аристократы-столяры, никогда так не трудившиеся, как там, за семью дверями, где они всенационально, классово – мастерили себе эшафот. Взвинченные до состояния постпохоронного отупления безвольные дегенераты, машинально продолжавшие выщелкивать костяшки остроумных сентенций, ядовитых афоризмов, убийственных сарказмов, они – по мановению какой-то таинственной руки, но не руки гегелевской истории, а руки какого-то иррационального кошмарного египетского божества, или, в лучшем случае древнеримской богини судьбы Тихэ – делали жизнь своего народа все хуже и хуже. Век этот – медный бык Фалариса, в котором на огне поджаривали человека, а его вопли звучали небесной музыкой.
Эпоха Просвещения с их королевами-шлюхами и обожествляемым всеми Злым Острым Умом – в каком-то смысле была шедевром. Самым настоящим шедевром, произведением искусства, удивительным слепком рококо и барокко, сплавом гения рационализма и псевдосентиментального религиозного пиетизма. Шедевром живодерни, не рассчитанной не то что на счастье народное, а даже хотя бы на удовлетворение первейших нужд самих невольных палачей (и – невольно – палачей самих себя). Он больше ста лет казался бессмысленным, бестолковым нагромождением антиквариата, смешных шуток и трюизмов, оперных страстей и припудренной скуки, с мушкой на бледной щеке, и в обязательном парике. Как обнаруженный нечаянно на чердаке автоматон, он механически шутил, механически восхищался красотой, механически творил ее, механически отправлял на плаху, механически любил, и был, механически, любимым. Но вдруг – в нем сверкнул молнией и пал лезвием с неба смысл! Когда кто-то обвиняет революционные массы в наивности их представлений о политике и собственных интересах, забывают о том, что, как писал Чоран в эссе «Любитель мемуаров»: «Эпоха, о которой мы говорим, достигнув апогея искусственности, тосковала по наивности — как раз тому качеству, которого в ней совсем не осталось». А что может быть наивнее решения всех проблем при помощи гильотины?
2.
Ответ: насмешка. Обычно считается, что остроумие или чувство юмора или цинизм, называйте как угодно, лучшее противоядие в случае отравления происходящим абсурдом, превосходное лекарство против банальной скуки, или, в конечном счете, идеальный антидепрессант. Вряд ли это так. Ирония скорее банальный физиологический рефлекс – как человек отхватывает руку, обжегшись на газовой горелке. Но рефлекс очень тонкий, цивилизованный, механистический, изощренный. Вместо того, чтобы на трагический абсурд ответить по-простецки «ай, блядь, больно, заебали, нахуй всё и всех!», ирония высверкивает зигзагом, кривой линией, она не ищет прямых путей, а замысловато петляет. Причем петляет так, что и сам автор порой не в состоянии угнаться за ее сверхсветовыми скоростями. Лихтенберг, сам дитя и плоть от плоти Просвещения, довольно много справедливого написал по поводу метафоры и остроумия, и что «метафора гораздо умней, чем ее создатель», и что «внезапная мысль остроумца своим появлением больше чем наполовину обязана дураку, в которого она угодила». Я думаю, то, что справедливо для остроты, справедливо и для метафоры – и наоборот. Мало того, мне кажется, за смысл, за ту вдруг обнаруженную бесплотную и бездонную пещеру, полную всяческих смыслов, которая разверзается при ударе током метафоры или остроумной шутки – не отвечает и сам автор. Метафора больше него самого. Уже потомки, читатели, могут обнаружить во фразе сотни значений, которые писатель и не подразумевал, а лишь надеялся, что умные считают два-три пласта под блестящей, набриолиненной или хромированной поверхностью остроты. Метафора, как и шутка – это трещина в земной коре. Трещина в мироздании произведения искусства, удар навылет, coup de grâce, разрезающий дурную паутину кошмара и обнаруживающего за драгоценной, но уже прогнившей рваниной – россыпь сияющих драгоценных камней. Их обнаружение не было, может быть, запрограммировано автором. У автора, быть может, была всего одна задача: самозащита, парирование ударов жестокой судьбы. Тщеславие, наконец.
Однако любая наивность, непосредственное действие, неожиданный, неповторимый удар шпагой, это маленькое чудо – очень скоро становится известным всем, привычкой, второй натурой, рефлексом, над которым или же вообще теперь не рефлексируют, или же рефлексируют чересчур. Наивность становится чем-то обыденным, бой фехтовальщиков превращается в невыносимую многочасовую изматывающую пытку для двух офицеров, каждый из которых и рад бы прекратить наносить удары и обороняться, если бы не дело чести, если бы не привычка, если бы не этикет, и уже не благоприобретенные, а врожденные, передаваемые по наследству, от отца к отцу – правила поведения в этом кошмаре. Ибо XVIII век – это, возможно, одно из самых чудовищных столетий в истории многострадального человечества. Это был настоящий сезон в аду, и мучения были тем безжалостнее, что все всех уверяли (и себя тоже), что жили в раю. Перефразируя Гумберта Гумберта, да, мы все очень любим эту блистательную эпоху, эти искусственные небеса с перламутровым отливом, похожие на небеса настоящего рая – любим игры и шутки этого кромешного ада, печи которого полыхали неслышно чудесным, лазуритовым, райским пламенем, но всё-таки, ада.
Хозяйка блестящего парижского салона философов маркиза дю Деффан, корреспондентка Вольтера (которого к месту и не к месту поминают герои «Насмешки» Леконта – в наследство от старца им досталась остроумная шутка, но не его сострадание) в 1726 году последовала за своей подругой в Нормандию, где, как пишет Чоран, «приятельницы каждое утро обменивались сочиненными накануне друг про друга сатирическими куплетами»: «Раз проснувшись, ирония непременно становится всеохватной, и если она с особым ожесточением нападает на религию и подрывает ее, то это потому, что втайне испытывает горечь, из-за того что не может уверовать. Но еще вредоноснее систематическая злобная насмешка, граничащая с самоуничтожением». В своих мемуарах Казанова, не большой в итоге поклонник французской жизни, рассказывал о том, какой успех вызывали его остроты у, кажется, маркизы де Помпадур (исследователи, впрочем, находят, что половина его шуток принадлежит не ему); как его, юнца, учили острить в тему и вовремя, как этому учат в «Насмешке» главного героя, которому противостоит местная маркиза Де Мертей; как на одном из «смотров» в примерно такой же небольшой зале, в которой сидят персонажи фильма Леконта – король Людовик XV взглянул через театральный бинокль на новенькую при дворе, но известную в Европе «поношенную» и поистрепавшуюся итальянскую куртизанку, и заявил, что «у нас есть и покрасивее», чем раз и навсегда уничтожил репутацию и придворную карьеру (читай – место к королевском серале) этой бедняжки. Когда мы по привычке говорим об аристократическом «пустом блеске», мы на самом деле слабо представляем, какого это не на минуту соприкоснуться с миром «Опасных связей» или «Мемуаров» Сен-Симона, а жить там. Жить ежедневно, вращаться в этих угрожающе нависнувших и двигающихся неумолимо по кругу (или казалось, что по кругу? – если в итоге в конце был эшафот, то где-то этот круг свернул на тропу развертывающейся спирали?) светских звездных плоскостях. Вращаться шестеренкой, скрипеть и пружинить, звенеть и молотить остротами, обмениваться колкостями, «как оно заведено отцами», как заведенные птицы петь одно и то же, утомительно и до странности механически менять любовников и любовниц в бессмысленных поисках все новых и все более острых и все более неожиданных, необыкновенных наслаждений – и не получать даже ожидаемых. Быть механической фигурой в ряду других механических фигур, и глупо улыбаться и умно, остроумно бить ядом в цель. Когда цель – ни в коем разе не веселье, а затянутое в парчу презрение (к жизни, к другим, к себе), победа-унижение соперника, победа, пусть кратковременная, над рутиной, над тоской бездумного машинального ежедневного жестикулированного спектакля – В КОТОРОМ НИКАК НЕ НАСТУПИТ КОНЕЦ! В котором, кажется, финала и вовсе не подразумевается. (Как в том фильме Бунюэля, где персонажи никак не могут выйти из дома). В котором все прелюдия, прелюдия-беседа, беседа-увертюра, беседа-завязка – и нет развязки, есть просто какой-то сброс чувствительности в переохлажденность эмоций, какой-то мелкий, смешной разряд. Преждевременная эакуляция, не дарящая ни малейшего удовлетворения. «Неспособность восхищаться» - один их главных признаков больного ироника. Невозможность настоящей наивности – другой. Третий - неумение верить во что-бы то ни было, кроме дурацких (как будто бы демоны над человеками издеваются всей этой черномагической чепухой) суеверий, алхимической мишуры и карликового Бога, такого же карликового и милого, как комнатная аристократическая собачка.
Эпоха-шедевр, эпоха-насмешка, эпоха – памятник нерукотворный себе поставившая эшафотом. Три акта комедии, и умопомрачительный страшный финал в духе фильмов ужасов. Мелодрама, обернувшаяся хоррором в декорациях гран гиньоля, от которого «кровь стынет в жилах». Так не бывает в искусстве. Но так бывает – в истории. Комедия для своих, трагедия для своих. Такой ряд междусобойчиков, любительских спектаклей из бесед-самих-в-себе-шедевров. В финале – кровавая развязка для зрителей, и для актеров. Для палачей и палачей палачей и палачей палачей палачей. Потомки удивляются, смеются, наслаждаются и плачут. «Драму для своих» рука того кошмарного божества, который всеми манипулировал, кто дергал за ниточки, десятилетиями собирая эшафот из остроумных памфлетов, золотого века Людовика XV, кресла Вольтера, из препарирования и гальванизирования лягушек и таких смешных кривляний преступников на виселице – аккуратно перенесла на историческую магистраль тенденций, подтекстов, правил, причин, последствий, поводов. Потому что если до Большого Эшафота ровным счетом ничего не могло быть или же быть все, что угодно (Ренессанс, барокко, китайская древность), то после Гильотины «могло быть только то, что было, и никак иначе». Революция может и стала результатом действия векторов роковых случайностей, но под пером историков, и, что еще хуже, под действием народных лидеров и масс – стала аргументом закономерного движения исторического Молоха. Но нельзя просто отмахнуться от странного чувства, что актеры-механизмы заведенного кем-то восхитительного театра, или сам неведомый Мастер – просто красиво поставили точку, ту самую точку, которую и предполагали, и не предполагали, о которой задумывались, но в реальность которой было так сложно поверить. Внезапную. Deus ex machina.
Революция и стала тем самым Богом из машины, которым Эврипид любил оканчивать свои трагедии. Она спустилась откуда-то из ниоткуда, собралась в противоположный на первый взгляд, но такой для потомков похожий автоматон, вместо театральных подмостков поставила эшафот, установила вместо парадных гостиных пылившуюся где-то до сих пор на девятом ангельском небе гильотину, и вдруг – также, внезапно – все встало на свои места, но это никому в итоге особенно не понравилось. Как писал все тот же Лихтенберг применительно к живописи и литературе: «Приложить последнее усилие к своему произведению — это его сжечь». Блистательные участники трехактной пьесы все три действия – эпоху Регентства и двух Людовиков – игравшие совершенно безумным (и бездумным) образом божественно и будто по наитию бессмысленную комедию за ради пошутить и убить вечер – в финале, который таки наступил, сыграли на разрыв аорты, и даже некоторые, доигрывая уже за сценой, не переставали острить и оттачивать свой болезненно тонкий ум, когда роль въелась кислотой и в ум, и в душу. Столетие длилось всеобщее вавилонское строительство золотого храма, только для того, чтобы затем этот храм сжечь. Сжечь триумфально, с криками, хохотом, визгами, воплями ужаса, и высвободить крик души: «Ну, наконец-то! Дождались! Как же нас это все достало!» Актеры театра XVIII века тем самым фактически превратили беспорядочный набор барочных виньеток и пачку рыхлой прозой написанных женской рукой пожелтевших писем – в звенящую чистой нотой, отточенную до состояния острого опасного лезвия бритвы, полную эротического напряжения и чеканных резких формулировок виртуозную самоубийственную развязку. Которая совсем не обязана была чему-то там кого-то научить. Так оно и вышло. Перефразировав другой чисто литературный афоризм можно сказать: «Французская революция, как книга-шедевр, оказала влияние, обычное для хороших книг: глупые стали глупей, умные — умней, а тысячи прочих ни в чем не изменились».