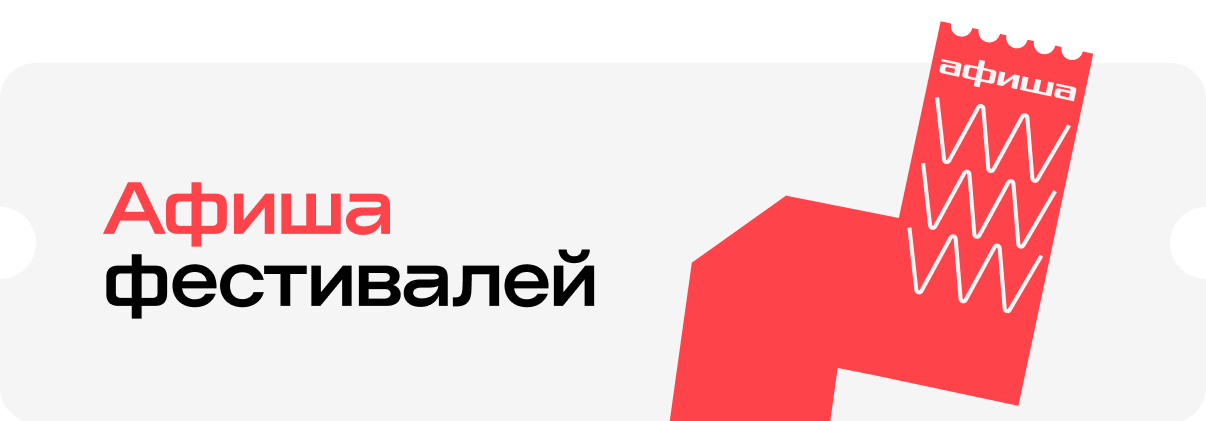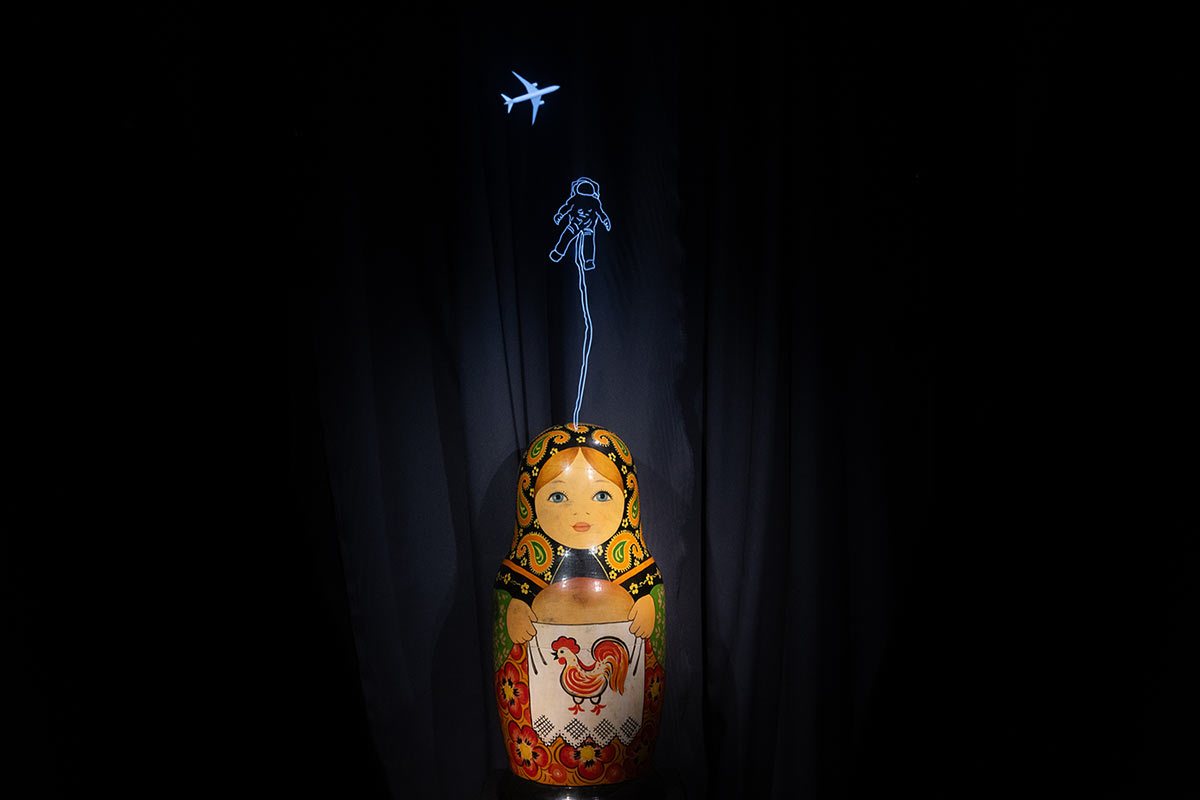О влечении жертвы и палача во второй половине XX века говорилось много и красноречиво. Вот и «Ивонну» классика польского авангарда Витольда Гомбровича играют как пьесу о природе фашизма. Но жертва, о которой ведет речь Владимир Мирзоев, не социального, а христианского свойства. Блаженная, которую играют в очередь Лиза Арзамасова и Мария Бердинских, своей смертью прерывает цепь насилия. Впечатляет и то, как решительно Мирзоев размежевывается с популярным дискурсом, и то, в какую завораживающую форму он отливает свою притчу.
| Драматический |
| Владимир Мирзоев |
УчастникиВсе
Как вам спектакль?
Рецензия Афиши

При королевском дворе, оцепеневшем в ожидании какого-то события, появляется необычная девочка. Прямо скажем, не от мира сего. Ее невинность и беззащитность всех к ней притягивают и провоцируют на жестокость. Молодые клевреты принца издеваются над ней простодушно, как дети над лягушкой. Принц берет выше — он намерен на ней жениться, а там как пойдет. Ивонна не совершила ни одного поступка, не проронила ни слова, но само ее появление при дворе запускает механизм поголовных саморазоблачений. В окружающих просыпаются подавленные прежде желания, все как один испытывают беспокойство — и настроены устранить его источник. Вокруг Ивонны плетется сеть заговоров, но умирает она, так сказать, самопроизвольно — подавившись рыбной костью.
О влечении жертвы и палача во второй половине XX века говорилось много и красноречиво. Вот и «Ивонну» чаще всего играют как пьесу о природе фашизма. Самая популярная тема в этом ключе — тема жертвы, которая того гляди сама станет палачом (вспомним фонтриеровский «Догвиль»). Но жертва, о которой ведет речь классик польского авангарда Витольд Гомбрович и вслед за ним Мирзоев, — иного, христианского свойства. «Она нас всех заключила в себе», — говорят об Ивонне в финале. Ивонна своей смертью прерывает цепь преступлений в прошлом и не дает насилию совершиться в настоящем. Впечатляет не то даже, как решительно Мирзоев размежевывается с распространенным, так сказать, дискурсом (в этом его «Ивонна» пересекается с «(А)поллонией» другого поляка — Кшиштофа Варликовского, которую покажут в эти две недели), — впечатляет, в какую форму он отливает абсурдистскую сказку. Ему всегда удавалось балансировать между смешным и гипнотическим. В «Ивонне» появилось новое для режиссера свойство, назовем его экономностью. Экономны в «Ивонне» и Марина Есипенко (ее королева родом из вахтанговской «Турандот»), и юродивый инвалид детства Ивонна (самоотверженная роль Лизы Арзамасовой, играющей в очередь с вахтанговкой Марией Бердинских), и даже по-эстрадному громкий Ефим Шифрин. Комедия в «Ивонне» шаг за шагом увязает в тягучей, гипнотической, прямо-таки мистериальной реальности, так что в финале от комедии только рыбья кость, в остатке — трагедия высшего порядка.
Отзывы
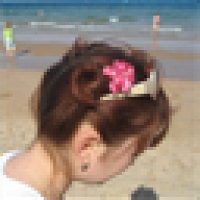
С трудом досидела до конца спектакля. Уйти после первого акта не позволило любопытство, а уйти, когда на сцене играют, не позволила совесть.
Первый акт действительно был многообещающим. Король, королева, принц - это всё обещало сказку, даже с несказочными поступками героев. Была вера в хороший конец.
Вот критики пишут, что Ивонна - кристальная душа, заключенная в убогом теле - она как катализатор: вскрыла всё тайное, обнажила всё невидимое. Словно Христос искупила собой грехи этого королевства. И никто, ни одна душа не знает о чем она думала. За три часа принцесса не произнесла и десятка слов. Язык тела тоже был не очень-то красноречив, ибо тело ей подчинялось плохо. Все остальные жители королевства казались истинным кривлянием.
Опять же у критиков вычитала про фашизм. Нет человека - нет проблемы. Хотя какие проблемы доставляет человек, который ни от кого ничего не требует, просто живет, ходит, дышит где-то рядом.
Сначала спектакль восхитил - проблемы инвалидов поднимают только альтруисты-волонтеры и изредка государственные чиновники. По крайней мере с экрана тв они говорят про интеграцию инвалидов в активную жизнь общества, про город, удобный для жизни... А на деле человек оказывается закован не только в своем теле с ограниченными физическими способностями, но и в бетонной коробке городской многоэтажки.
В обшем, тема важная и нужная, но в спектакле она так разбавлена какой-то пошлостью, что было трудно всё это выносить. Во многих сценах было достаточно тонких намеков, не доводя изображение до абсурда. Театр - язык символов, но что означали эти буханки-кирпичики или красная нить или кастрюли? Для чего там был Валентин, которого непременно выпроваживали из комнаты? Очень много непонятного из того, что должно было бы натолкнуть на мысль, придать объема постановке в глазах зрителя.
PS Лизу Арзамасову надо еще посмотреть в других постановках. Она интересная.
Полагаю, что пьеса интересная...но точно утверждать не могу, т.к. досидеть до конца спектакля не удалось. Если честно, не удалось даже до антракта.
Вмест�о воплощения образов, актеры зачем-то все время бегают и кривляются на сцене. Также на сцене стоит платформа, которую постоянно катают туда-сюда. Наверно в этом есть какой-то смысл. Очень глубокий. Не для всех.
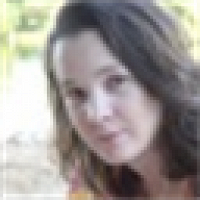
Мимика. Игра теней. Движения. Все было задействовано режиссером для того, чтобы погрузить зрителя в действие. Лицемерие королевы. Грешки короля, которые вылезли в его сыне. Яблоко от яблони? Все имеет свои корни. Тетушки-сводницы. Актеры постарались на ура. Не недоиграли и не переиграли. Ни одной фальшивой ноты. Для меня. ИХМО.
Ивонна - индикатор, искра для того, чтобы заставить принца чувствовать то, на что он считал себя просто не способным. Гнев. Зависть к чистоте...да чего там к чистоте, просто к человеку который создал свой собственный мир. Не похожий на тот в котором привык жить он. Чем больше она молчала и тем больше раздражала его не понятностью - он не знал как к ней относиться. Чем еще потешиться. Единственный его всплеск во всей его остальной холодной и так похожей жизнью.

Посмотрела премьерный спектакль "Принцесса Ивонна" в театре им. Вахтангова. По пьесе Витольда Гомбровича и в постановке Владимира Мирзоева. Хотела увидеть Лизу Арзамасову в главной роли, но в этот день играла не она, а Мария Бердинских. Я не пожалела. Роль принцессы Ивонны главная, но практически бессловесная - за весь спектакль не больше десятка слов. Тем не менее, когда Ивонна на сцене, внимание приковано именно к ней. Она все время движется, скользит бесшумно по сцене в необычной, специфической пластике человека с дцп. Она непонятна, неэмоциональна, некрасива, молчалива, аутична, живет в своем внутренннем мире, почти не реагирует на происходящее вокруг нее, молода. А вокруг обычные люди живут обычной жизнью, веселятся, влюбляются, сходятся, расходятся, прожигают жизнь. Случайным образом, бедняжка Ивонна попадает в круг их внимания, становится предметом насмешек и издевательств молодых людей, среди которых оказался сам принц. Принц пошел дальше всех (как и положено принрцу) в своих насмешках и объявил,что женится на Ивонне. Таким образом Ивонна попала во дворец в качестве т.н. невесты принца, что вызвало оторопь и возмущение короля и королевы - родителей принца. Но им пришлось смириться со странным выбором сына и принять это непонятное, чуждое им существо в свой круг. Так, ничего не предпринимая сама, пассивная и вялая, Ивонна стала центром внимания королевского семейства, придворных и слуг. Незамтно для себя все они оказались втянуты в таинственную игру и подчинены странностям этого загадочного создания, по имени Ивонна. Они честно старались пробудить в себе благородное чувство сострадания, желание помочь бедняжке освоиться в новой для нее обстановке, но ужас ответственности за никому ненужного на самом деле, никому не интересного, совершенно больного человека неизменно пересиливал редкие порывы альтруизма. Более того, появление Ивонны в их жизни неожиданно открыло им глаза на их собственные несовершенства: порочность, аморальность, бездарность, никчемность. А вот с этим мириться они никак не могли. Поэтому единственным выходом, который они увидели для себя, в качестве избавления от тягостного чувства вины за свои многочисленные пороки, было убийство источника неприятностей. Что и было сделано. Переживали, конечно, скрывали друг от друга свои намерения, решиться на убийство было трудно и страшно, но куда деваться-то? Нет человека, нет проблемы.
Абсурд, аллегория, символизм, немного мистики, драматизм, фарс, трагедия, клоунада, мелодрама, сатира - все присутствует в спектакле. Время действия - вроде как средние века, но с современными фотоаппаратами в руках персонажней, декорации средневековые, а костюмы - смесь времен, вплоть до форменной одежды крупье из казино и соответствующей прически на одной из придворных дам сверху и кружевной короткой юбки снизу. Место действия - где угодно: имена западные, но упоминаются русские березки и рябинки. Замечательные постановка, хореография, сценография, исполнение. В общем, интересно, захватывающе, здОрово! Получила большое удовольстве.