
Все отзывы о спектакле «Бег»
Рецензия Афиши
Начало спектакля — сцена-рекордсмен даже для бесстрашного экспериментатора Юрия Бутусова. В течение 10 минут (а в театре они тянутся как все 30) Серафима Корзухина, сидя на фоне гигантского железного занавеса, лихорадочно трясется под стук и скрежет Pink Floyd, а все прочие бегом подносят ей бессчетные одноразовые стаканчики с водой. С этих самых пор начинается помутнение сроком 3 часа 50 минут, когда никто из бегущих не выходит из состояния гипнагогии.
Кажется, трудно подобрать пьесу, более созвучную современным реалиям, ежедневно наполняющим ленту фейсбука, чем фантасмагорическая булгаковская история про белых беженцев из красной России. Или по крайней мере такую, в которой чаще бы повторялось название самого известного сегодня полуострова. Но в спектакле Бутусова, как ни удивительно, дело не в постоянном Крыме, который уже трудно воспринимается без притяжательного местоимения, и не в том, что гражданская война, что стреляют и бомбят.
Если не считать очевидные подмигивания вроде звучащих «Океана Ельзи», уже полтора года как объявленных нон грата в России, то «Бег» все-таки не о геополитических неурядицах и не о братоубийственной войне. Для Бутусова и давно готовых к его безумствам вахтанговцев бег — экзистенциальное состояние, смятение внутренних тараканов. Это сновидческий сериал из ночных кошмаров человека, у которого даже не страна уходит из-под ног, а все то, во что верил, все ожидания, а главное — хоть какая-то возможность найти место и определить свое я в то время, когда практически ничему определение подобрать невозможно. Звучащие в спектакле строки из Володина и Бродского во многом именно об этом — о потере собственного лица и бескрайней невозможности хоть где-то отыскать его реальные черты: «Я бы другое взял напрокат, я не снимая его б носил».
Бутусов и его преданный художник Александр Шишкин запирают своих героев в пространстве, сурово ограниченном железной стеной, пожарным занавесом, охраняющим свою территорию от нечаянного воспламенения и вытесняющим тех, кто еще недавно был по ту сторону. Позже стена распахнет это пространство — Константинополь и Париж уже представят собой зияющий чернотой простор, подсвеченный последними лучами космических прожекторов. Перед этими людьми, кажется, весь мир, а им бы и коробки для тараканьих бегов хватило, чтобы окончательно потеряться.
Сон, лихорадка, безумство, суматоха непрерывных сборов и нескончаемых мелких перебежек в ситуации одного тотального бега — те оправдания, которые позволяют Бутусову плодить сцены длиной в бесконечность, увлекаться повторами и флешбэками и бодрить публику эстрадными номерами. Он из тех, кому не страшно, чтобы его актеры несколько минут изображали фокусницу-обезьянку или смотрели в одну точку, потрясывая ногой и обильно обливаясь водой. А все потому, что ему, в отличие от его героев, вектор безумного пробега видится предельно ясно. Прямиком в незнаемое.

Смотрела два раза. Восторг!!! Типичный "бутусовский" спектакль - и басы на весь зал (как в "Барабанах" в Пушкина приятные, не "будящие" Зрителя как в Ленкоме), и эмоциональные "качели": от грустной песни про "деньги" в следующую секунду к заводной Mr. Sandman и обратно. Драма. Со счастливым концом: влюбленному ЛЮБОВЬ, Игроку - выигрыш! Сумасшествие Главных Героев очень красочно обозначено: и Призраки, и Живые, и разговоры с самим собой. И только свинец обезболит. Очень тонко показан Ангел Смерти: Невеста в платье на обручах. Фантасмагорически поют: у всех актеров сильные голоса, поют - не фальшивят. Особенно комичен номер Сергея Павловича Голубкова. Все приемы Юрия Николаевича демонстрируются на сцене: вода, конфетти (которое разбрасывают Герои), стулья, табуретки, веревки, столы, надувные шары, пистолеты, раскрашенные лица актеров. Сцена Главных Героев за столом напомнила мне аналогичную сцену в "Город. Женитьба. Гоголь" Ленсовета (главный режиссер Юрий Николаевич). Очень понравилось как показан Бронепоезд - в точку. Особенно когда "гудок" - крик Бронепоезда сливается с Музыкой. Музыка - музыка отдельный Герой постановки. Живой, ритмичный, энергичный, говорящий с тобой 4 часа. Сильно. Для думающего Зрителя. Для переоценки ценностей.

Сегодня ходила с однокурсницей на БЕГ в постановке Юрия Бутусова...Однокурсница (историк, социолог, профессор, доктор наук) стала упрашивать уйти через 7(!) минут после начала....Не выдержала психоделическую музыку с лязганьем железа и вкраплениями "Пинк Флойд" (а длилась она 23 минуты, оглушив зрителя, сильный ход...) в экзистенциальных снах-кошмарах...
Еле уговорила её досидеть хотя бы до антракта, мне были интересны, как сценические необычные эффекты, так и вопрос - насколько сильно можно испортить великое произведение...Хотя на моем любимом сайте "Афиша" отзывы все интересные, частично восторженные, философские, с цитатами...
С ролями актеры справились, претензий нет.
Я понимаю, что страшную трагедию 20-го года, когда крушились мир, жизни, семьи, ценности и моральные устои, сложно передать без черного цвета, но ...
....прежде чем пойти, решите для себя, готовы ли вы выйти опустошенным, вывернутым наизнанку и головной болью и кучей не определяемых эмоций.

Восемь гипнонических снов по пьесе "Бег" Булгакова в Театре им.Вахтангова поставил Юрий Бутусов. Каждый сон - о белогвардейской России, бежавшей из страны в годы Гражданской войны, оставив здесь часть души. В каждом сне - ответ на вопрос, который сегодня кажется, если и не пафосным, но неправдоподобным (и слава Богу, что так): "Каково это – уезжать из страны, зная, что дорога назад закрыта, а страна твоя в руинах?"
Чувство, сегодня не знакомое нам, когда уезжаешь не от того, что тебе плохо, а от того, что ты обречён на смерть, оставшись. Эта мысль в постановке Юрия Бутусова передана на физическом уровне, и гипнотической поступью входит в зрителя с первого сна, - 10 минут которого героиню Екатерины Крамзиной, Серафиму Корзухину бьёт дрожь, переходящая в лихорадку. Под звуки Pink Floyd, съёжившись, тонешь в этом мороке и сне ужаса.
Режиссёр Юрий Бутусов создаёт мир забытья и боли войны мастерски: звуками, образами, сценографией, текстом. В общую картину вплетается каждый звук – от Pink Floyd до «Океана Эльзи»; каждое движение (девушки в белом платье, трагично танцующей смерти, которая появляется каждый раз перед уходом героя; красный вихрь в платье фламенко – словно война, сметающая всё на своём пути); каждое вкрапление в текст Булгакова других авторов – Бродского, Маяковского, Довлатова – их стихи эхом отзываются в общей теме – бега, отъезда из своей страны, холодом проходят по каждому позвонку.
Сценография Александра Шишкина здесь подчинена общей цели – донести чувство разделения мира надвое: «до» и «после» войны, мира России и пространства остального мира. Большая железная стена делит сцену на две части: то ли отделяя мир сна и реальности, то ли мир ужаса Гражданской войны от мест, куда можно сбежать: здесь это Крым, Константинополь, Париж. Сюда бегут герои Сергея Епишева и Екатерины Крамзиной, Фёдора Добронравова и Артура Иванова. Добронравову и Епишеву хочется вручить приз зрительского восторга, личную «Золотую Маску» уже во время аплодисментов.
С музыкой здесь какая-то мистическая история. Она тоже вводит в оцепенение, если хотите, в лунатизм, особенно, в сцене с генералом Чароттой, который сидя на площади в Константинополе ищет новые смыслы, под звуки Pink Floyd и весёлую песенку Mr. Sandman. Одна мелодия наслаивается на другу, подменяя что-то по-настоящему важное. Это как включить телевизор и между трагичными новостями мира увидеть жизнерадостную рекламу майонеза «Курочка ряба».
А ещё Бутусов словно доказывает простую, если не банальную истину: пережить потерю общих ценностей и личных ориентиров может помочь только любовь, являясь тем самым главным смыслом. И как любовь может выхолить, вылечить, возродить. И пусть спектакль совсем и не о любви. Но попробуйте переубедить меня в этом, посмотрев на героиню Екатерины Крамзиной – Серафиму Корзухину в начале спектакля и в самом конце. Болезненная лихорадка, сотрясающая её тело всё первое действие, безумие и безысходность – во второй и третьей частях, и теплота и лёгкость телодвижений и всего образа – в конце постановки.
Или посмотреть на героя Фёдора Добронравова – Хлудова, в отсутствие той самой любви, которая всегда выше самой благородной идеи. Бравая выправка и командный голос в начале пьесы сменяются физической сгорбленностью и бубнящими разговорами с самим собой…
На одной из встреч со зрителями Юрий Бутусов сказал: «Мне кажется, в театре должно быть трудно. Театр – это работа». Да, смотреть «Бег» не просто. И так же прекрасно. Это тот самый театр, после которого выходишь выше ростом, зная о жизни больше.
Разочарование! Ушли после антракта.
Пьесу Булгакова "Бег" казалось бы сложно испортить, но нет, возможно, и это трагедия русского театра - зачем?!
Тако�е нагородили, что от Булгакова то ничего и не осталось. Ни одной эмоции не затронули, просто бредятина и все.
Это как с современным искусством - оно или есть или его нет.
Так вот - "Бега" тут нет, это, пожалуй, личные сны Бутусова(

/размазанная тонким слоем и с клокочущей болью в груди счастливая фанатка Бутусова, встала на табуретку и написала этот маловразумительный отклик/
О природе кошмарных снов.
Желаю вам жить в интересное время. И особенно в интересное время в этой стране.
Вопли восторга предназначены музыке. Пожарный занавес. Гром небес. Сердцебиение. И когда все вместе железный занавес опускается-поднимается под «гром небес» и звуки сердцебиения оно превращается в отголоски бронепоезда, гильотины и…
Бег во сне и наяву. И не известно еще, где это тонкая граница сна воспаленного сна и угнетающих ужасов реальности. Насыщенный образами, который в связке ассоциаций накрывают волной, и перестаешь чувствовать время, а начинаешь плыть внутри ив заданном ритме сновидения. Это кошмар именно человеческой личной драмы и людей, убегающих от кровавой трагедии обстоятельств, чтобы спастись. Еще они бегут от себя, поневоле вынужденные бежать по кругу.

Хотите понять этот спектакль, сделайте усилие воли и прочитайте повесть для начала. И при просмотре все, как калейдоскоп, сойдется в картинку. А все театральные эффекты просто усилят мысли Булгакова: революция - это бред, кошмарный сон...

Я не хожу смотреть в театр классику, или современников, я хожу смотреть Театр. И с этой точки зрения, спектакль - безусловно выдающийся. Хочется прищуриться и сказать, "ах шельмы! куда завели театральный язык" - раньше все тащили актеры, а теперь - настоящий взрыв - сцена, звук, свет, жанры, конфетти, танцы, декорации и грим, - все единым воплем сбивает зрителя с ног. Я обычный зритель - мне тоже тяжело сидеть 4 часа. Более того, я и Бег не читала, вспоминала сюжет по обрывкам ЧБ фильма. Но не обязательно владеть контентом, чтобы уловить чувство, эмоцию, смысл. Для меня спектакль оказался про то, как с людьми случается то, чего они больше всего бояться - прям как в жизни. Когда ничего страшнее впереди быть не может, бояться нечего. Страшное уже происходит. Именно сейчас.
И герои ни в чем не виноваты, пришли такие же как они, и забрали их город, их дома, имущество, страну. И они пытаются выжить, добраться до Крыма, Стамбула, Парижа. Заработать денег на жизни, на ужин. Но все это бесполезно, потому что самое страшное уже случилось и в этом как бы никто не виноват.
Эстрадные вставки очень облегчали просмотр, а Океан Эльзы и "Я остаюсь", вселяли ужас, если честно. Поскольку однозначно намекали, может, самое страшное уже и с нами происходит... прямо в нашей стране и при этом режиме, просто мы выбрали этого не замечать, и сидим в зрительном зале, смешанные с мертвыми белогвардейцами с мешками на головах.

Совершенно непонятно, почему для дико затянутого (4 часа!) и уныло- бездарного капустника выбрали пьесу Булгакова «Бег». Впрочем, если бы не прорывающиеся изредка куски Булгаковского текста, высидеть эту унылую и очень шумную буффонаду было бы решительно невозможно.
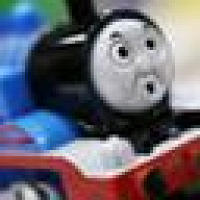
Театр – это всегда очень лично, даже интимно. Ты попадаешь как бы в свой внутренний мир. И в нем проживаешь происходящее. И бывает трудно признаться в том, что ты сходил и не понял. Чувствуешь себя каким-то недоразвитым. Словно твой внутренний мир – беден и убог. Вот, все поняли, а ты нет. Ходи в кино, идиот! Театр им.Вахтангова – мой самый любимый театр. И я всегда хочу оправдать то, что там происходит. И режисера Туминаса, а заодно и все, что там нынче ставят с его мудрого дозволения, я очень хотела бы понять и принять. Но увы! “Бег” стал некой точкой невозврата, после которой мне будет трудно пойти на вахтанговскую премьеру не прочитав перед этим множество отзывов, дабы не ошибиться. “Бег” - пьеса о времени. И каждый школьник знает, какое это было время, поэтому в спектакле все очень шумно, громко и непонятно. Как будто вы находитесь в вестибюле сумасшедшего дома и у больных сейчас – свободное время. Они бегают вокруг и каждый из них поглощен своим занятием. И то, чем занят лично он - лично для него крайне важно. Он видит в этом и смысл, и целостность, и логику. Потому что в его мире – это и есть настоящее. Больные взаимодействуют друг с другом. Ведут диалоги. Читают стихи. Танцуют. Может показаться, что это даже прекрасно и возвышено. В конце концов, где грань между нормой и безумием? Возникает вопрос, при чем здесь Булгаков? Разве он писал о сумасшедших? Наверное, все зависит от читателя. Одни увидят в его произведениях трагедию нормальных людей и будут этому сопереживать. А кто-то подумает, что время Булгакова и впрямь свело людей с ума, и будет смотреть за действием безумцев в вестибюле с нескрываемым интересом. “Бег” - спектакль о сумасшедших. Вот таких вот реально больных людях, которые видят мир по своему. У них громко – это очень громко, так, чтоб живот вибрировал у зрителей на балконе. А хаос – это как Петербург Достоевского – главное действующее лицо. Они изображают хаос в соответствии со своими представлениями о хаосе. Упоительно. С надрывом. И чтобы связать все свои пантомимы и ужимки воедино нужно что-то мощное. Что-то, на что пойдут люди. Не безвестный драматург Наливайко, а мэтр. Кто-то такой, ну, монументальный. Кто у нас там уже помер, чтоб по судам потом не затаскал? Ну и чтоб даже школьники знали, что это серьезный такой дядя, из хрестоматии за 7-11 класс? Нахватаем оттуда немного сюжета и красивых предложений и получится оригинальная авторская версия в модном сейчас стиле “кто не понял, тот дурак”. Ну и персонажам надо дать имена какие-то, чтоб в программку записать. Правда они уж больно одинаковые все вышли. Я не различала их даже внешне. Но с сумасшедшими так всегда. Надо с ними пожить подольше, чтоб не запутаться. Самыми честными были люди, которые встали через 10 минут после начала спектакля и покинули зал. Я трусливо досидела до антракта. И мне казалось, что где-то рядом беспомощно плачет Булгаков, получивший от театра Вахтангова хлесткую и совершенно незаслуженную пощечину.

Очень тонкий спектакль, как всегда у Бутусова, полный метафор, сцен настолько красивых, что ими хочется любоваться как картиной, рассматривая подольше каждую деталь, вызывающей мурашки по коже музыки.. всё в стиле Бутусова.
Нечто подобное он уже делал несколько лет назад в "Отелло" - используя минимум непосредственно текста пьесы, дополняя его различными стихами и музыкой самых разных жанров, тем не менее очень точно передать суть пьесы и даже обратить внимание на ее самые затаенные уголки.
"Бег".. восемь снов, рассказанных порой почти без слов, восемь кошмаров, точно передающих атмосферу эпохи, безумной, жестокой, беспощадной.. Пьеса довольно тяжелая. И спектакль получился, пожалуй, самым тяжелым и гнетущим из всех работ Юрия Николаевича. Сложный для восприятия. Тем не менее, очень красивый и впечатляющий. Потрясающие актерские работы. Все до одной.

Страшно сказать, но это лучшее, что я вообще когда-то видела. Это спектакль не видишь - его чувствуешь. Конечно, при условии, что ты знаком с Булгаковым, что ты читал Бег, и не просто узнал буквы, но и понял,и принял как лучшее детище Булгакова. Это его жизнь и жизнь всех нас,бегущих. Низкий поклон всей счастливой команде этого Бега, уверена, что не только от меня и всех кто со мной, но и от самого Булгакова.
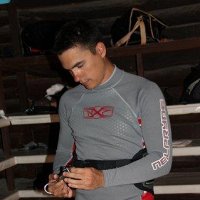
Это просто шедевр, больше мне понравился только его Барабаны в ночи в Т Пушкина.

4 часа под психоделическую музыку с лязганьем железа и вкраплениями музыкальных номеров от "Океана Эльзи" до "Пинк Флойд" на фоне железного же пожарного занавеса длится фантасмагория. Это не просто 8 снов, это 8 кошмаров, 8 бредовых состояний. Сначала Серафима в тифозном бреду видит какие-то мистериозные фигуры, проскакивающие мимо нее: они подают ей пластиковые стаканчики с водой. Но пожар (тот, "мировой, на горе всем буржуям" -- и этот, в душе и теле героини) из пластиковых стаканчиков не залить. Потом Хлудову мерещатся какие-то люди, трупы, виселицы -- и тот самый вестовой Крапилин, который быстро становится фантомом и будет преследовать генерала до самой смерти. Свои кошмары и у Чарноты, и у Корзухина. У всех. Железный занавес иногда поднимается -- там остатки мебели роскошных времен, с каждым разом мебели все меньше. Света почти нет: все либо черное, либо белое, иногда мелькает красное. "Белая армия, черный барон...", "Черный вечер, белый снег..." и т.д. Ассоциации из того, революционного времени. Красное -- тоже понятно: большевики, кровь, смерть. Кстати, большевиков нет на сцене, как нет их в этой пьесе. Но по большому счету, белых тоже нет. И темы России, утраченной родины нет. И знаменитые фразы типа: "При желании можно выклянчить все: деньги, славу, власть. Но только не Родину, господа. Особенно такую, как моя. Россия не вмещается в шляпу!" -- выброшены. Вообще сцена в Париже сведена к минимуму: только игра в карты. Зато тема тараканьих бегов -- лейтмотив постановки. И во второй части Хлудов, как огромный таракан, -- сгорбленный, омерзительный убийца, которого мучают кошмары. Закономерно, что он кончает самоубийством (хотя у МА этого нет). И вся его армия такая же - тараканы, бежавшие из России.
Это бред и кошмары выброшенных из жизни людей. А не белая армия, цвет нации, по воле судеб оказавшаяся на чужбине и переживающая страшную трагедию. Это просто сумасшествие каких-то лишившихся дома и погибающих людей. И страшного убийцы Хлудова.
Постановка сильная, как всегда у Бутусова. На психику действует подавляюще: я потом всю ночь не могла уснуть.
Но воля Ваша: это не мой Булгаков. То есть все эти вещи можно у Михаила Афанасьевича в "Беге" найти: и бредовые состояния, и чувство вины, убивающее сознание, и многое другое. А еще у самого МА полно символики. И если к ней добавить еще символику Бутусова, то получается такой ребус, который и воспринимать трудно: через 2 часа устаешь разгадывать. Но не это главное. А главное то, что у Булгакова в пьесе трагедия России. Через трагедию потерявших ее людей (родной брат его оказался за границей, да и вторая жена -- Белозерская -- тоже прошла через "бег" за границу). А у Бутусова цель -- исследовать кошмары пограничного состояния сознания. Конечно, это тоже интересно, но "Бег" Булгаковым создавался не для этого.
Так что фильм Алова и Наумова по-прежнему остается единственным адекватным воплощением этой пьесы. Практически гениальным.

Сон режиссера - рождает "Бег".
Юрий Бутусов имеет склонность к эпическому театру. Театру где повествование не бежит бездумно и безоглядно, а вполне наоборот, оно течет медленно, основательно, со множеством смыслов. Моё личное мнение, Бутусов очень увлекся эстетикой Брехта. После постановки "Доброго человека из Сезуана" и "Кабаре Брехт" Бутусов стал использовать методы Брехта к месту и не к месту. Спектакль в Вахтанговском театре не минула чаша сия.
Первый сон, а точнее тифозный бред, сделан бесподобно. Двенадцать, а может и все шестнадцать, минут, которые длилась эта сцена дали все основные понятия про что этот спектакль. Про бег. Бег времени, истории, бег людей откуда-то и куда-то. Все куда-то бегут, но бегут по разному. И здесь оказалось важно все, от пластики до пластиковых стаканчиков с водой. Такая огромная метафора ужасного болезненного состояния России и людей. Жуткая тягучая музыка Pink Floyd, только усиливала ощущение бреда Серафимы Корзухиной, да и зрителей. Подозреваю что у многих возник вопрос, что это и как это относится к Булгакову. Ответ каждый найдет для себя сам. Но для меня это очень точное прочтение одной из величайших пьес русской драматургии. Бутусов сочиняет спектакль, и отнюдь не по мотивам пьесы Михаила Афанасьевича. Он делает спектакль строго по тексту булгаковского "Бега". Но это спектакль Бутусова, а не Булгакова. С этим надо просто смирится.
Весь спектакль построен на точных образах, решен абсолютно театральными методами и в вахтанговской традиции. Если бы этот спектакль ставился в театре Красной Советской Российской Армии то бронепоезд был бы настоящий, была бы это сцена МХТ/МХАТ то мы бы и не увидели никакого бронепоезда, но отчетливо бы его услышали. У Бутусова прекрасное решение, в роли бронепоезда - человек, и он (бронепоезд) становится живым участником действия. И всё что предлагает режиссёр, мне как зрителю интересно. Все актерские работы на самом высоком уровне. Образы Хлудова, и Чарноты, и Корзухина, явная актерская удача молодых вахтанговских актеров.
Для меня же самым потрясающим стал "Сон пятый". Здесь проявился весь ужас потери Родины, когда Чарнота, в гриме грустного клоуна из мим-театра "Лицедеи" (легкое приветствие городу на Неве), с гармошкой на перевес, упрашивает Артур Артурыча позволить сделать ему ставку на Янычара. Отчаянье и унижение. Слёзы и размазанный грим делают из доблестного и бесстрашного генерала Чарноты, раздавленного и никчемного пьяницу в чужой стране. И здесь понимаешь как это страшно, потерять Родину. Страшно до слёз...
И единственный минус, для меня, так это всё тоже увлечением Брехтом. Бутусов вставляет музыкальные номера с некоторым остервенением. Кабаре становится некой связующей темой. Иногда это к месту и по делу, как песня Крупнова "Я остаюсь" в исполнении Чарноты, а иногда только удлиняет спектакль, никак не влияя на его динамику, смысл и всё остальное. Если их бы не было, то спектакль ничего бы не потерял бы. Но был бы немного покороче.
Не скажу что это элитарное искусство, но этот спектакль не для всех. Он насыщен множеством аллюзий, метафор, цитат и всего прочего, что человеку со средним уровнем знаний будет достаточно сложно будет понять что в этом спектакле к чему. Но если и не разбираетесь, то и не надо. Можно просто насладиться игрой актеров и картинкой самого спектакля.

После спектакля "Бег" Юрия Бутусова в Вахтанговском, задыхаясь от набегающих слёз, ходил по коридорам театра, ища место, где можно поплакать...И сейчас, когда пишу, накатывает...
Великий спектакль."Бег" медленно вовлекает в странное действие снов, не отпускает ни на минуту своим страшным нарастающим ритмом бега, захватывает отчаянной песней Черноты "Я остаюсь здесь, чтобы жить" и в финале, когда женщина в белом уводит Хлудова на Родину - в смерть, очищает безысходностью

Насколько первая часть спектакля привела меня в благоговейный восторг мощью картины рушащегося мира, настолько же после антракта я недоумевал на откровенно опопсовевшее повествование.
Насколько физически убедительны декорации первой части, главное место в которых занимает железная стена с клепками, балками, изгибами – олицетворяющая собой железнодорожный вагон, станцию и прочее. Настолько же подчеркнуто упрощенно выглядят декорации второй части: ни Стамбул, ни Париж в них не узнать.
Как мощно звучит музыкальная тема в первой части, как робко появляется лишь раз или два – во второй. Следует при этом отметить, что постановка очень музыкальна. Звучат в том числе современные песни, например «Океана Эльзи» (лидер группы внесен нашей страной в ответный санкционный список, что добавляет особого смысла и в без того многозначный спектакль). Но в основном это американские шлягеры, танцевальные хиты середины прошлого века (такие как «Mr.Sandman»). И только особый, надрывный музыкальный рефрен, в основном звучащий в первой части, не контрастирует с произведением, а наоборот, всячески его усиливает. (Интересно кто автор этой музыки? В программке к спектаклю о композиторе не сказано. Лишь скромно говорится о «музыкальном дизайне». Неужели это Латенас, умерший 4 ноября, в день, когда я смотрел в театре эту постановку? Как жаль, какая утрата!).
Такой контраст между частями, думаю, сделан режиссером совершенно сознательно: и чтобы пощадить наши современные нервы, поскольку, как ни странно, но я лично был свидетелем периодического смеха некоторых зрителей и замечаний от других о том, что это не комедия (об этом можно прочесть у Куприна в «Загадочном смехе»), так и для того, чтобы пожалеть артистов: шутка ли, спектакль идет больше трех часов, не считая антракта (!).
В итоге повествование завершается четкими выводами: генерал Чернота (А. Иванов) остается в Стамбуле, сам выразив свою главную мысль: не идейный, мол; командующий Хлудов (В. Добронравов) прерывает свой жизненный путь, а приват-доцент из Петербурга Голубков (Л. Бечевин) и Серафима Корзухина (Е. Крамзина) возвращаются из вынужденной эмиграции на Родину, вместе. Так повествование из политического становится гимном о любви и самоотверженности ради любимого человека. В этом, наверное, главная идея. Интересно, а как у Булгакова?
Всем известно, когда происходят рассказываемые события. Однако спектакль вобрал в себя много «знаков» современности. Тут, как мне показалось, можно встретить отсылки к телесериалу «Шерлок» с Камбербэтчем и Фрименом в главных ролях (например, покачавающееся передвижение девушки со свисающими длинными волосами, закрывающими лицо, в белом платье, которая символизирует смерть, отсылает к «Безобразной невесте»; есть также узнаваемый своей интонацией возглас злодея Мориарти: «Я популярен!»).
Одно мне откровенно не нравится в современном театре (не только здесь): это использование микрофонов, усилителей и, в особенности, фонограмм. Театр должен быть живым!
Наконец, отличная игра всех актеров. Особенно хочется отметить восхитительную Екатерину Крамзину в роли Серафимы Корзухиной, в первом сне показывающую все грани постоянно нарастающего нервного возбуждения вплоть до психического срыва (и все это – без слов!), обаятельного Артура Иванова в роли генерала Чарноты, а также кричащий бронепоезд в исполнении Валерия Ушакова. Для блистательного Леонида Бечевина роль слишком мала, а Виктор Добронравов поставлен в жесткие рамки, предложенные режиссером Ю. Бутусовым для роли Хлудова, и нервозен в первой части, и согбен – во второй. По-моему, в этой роли талантливому характерному актеру тесновато.
Спектакль не отпускает и через неделю. Неудивительно, что он пользуется большой популярностью!

"Бег" в Театре Вахтангова в постановке Юрия Бутусова. Творческий экстаз, граничащий с шизофренией. Очень необычно. Восемь снов, разбитых на два действия, идут почти четыре часа, поэтому требуют большой выдержки и закалки. Хотя опытных театралов это не испугает. Я попала на предпремьерный показ "для своих", но даже "свои" не выдерживали - человек 10 точно ушло в антракте (речь о партере; не могу сказать, как дела обстояли с амфитеатром и балконом - не видела).
Кстати, уже во втором спектакле Бутусова я замечаю некую заклинательность, создающую магию на сцене. Фантасмагория, игра, но завораживающая. Музыкальная эклектика - Фаустас Латенас переплетается с Pink Floyd, Штраус с Майклом Джексоном, "Океан Эльзи" с Ниной Симон - неожиданная, дерзкая. Вообще спектакль получился очень контрастным, но метафоричным. Если в первом акте было больше "заклинательности", то второй - почти китч, перформанс. Отдельное "ах" заслуживает сценография Александра Шишкина и, конечно, актерские работы - Добронравов, Крамзина, Иванов, Симонов, Ушаков - это было сильно. Понравились мне еще световое решение и работа режиссера с пространством. Театр дает мощный заряд, что сегодня со мной и случилось

К моему стыду "Бег" - одно из немногих произведений Булгакова, которое я до сих пор не читал. Как не видел и классической советской экранизации Алова и Наумова. Поэтому постановку Бутусова - смотрел с чистого листа, без собственных представлений о том, "как надо".
Спектакль - тяжелый, горячечный, для восприятия - трудный. Все первое действие - не видения даже, а галлюцинации персонажей. Черные, темные, кошмарные галлюцинации людей, теряющих все на свете - и, прежде всего, самих себя. Они бредят, они заговариваются, они теряют надежду - но все же пытаются идти дальше, и мертвые, и живые. Все, кроме Хлудова, который уходит со сцены скорченный и страшный.
Рекомендовать ли "Бег" в интерпретации Бутусова к просмотру? Нет, наверное, не рискну. Но лично для меня - это одна из мощнейших постановок, виденных за несколько последних лет.

Спектакль тяжеловат: все-таки четыре часа для него - долговато. Время ощущается, и не так уж легко. Чтобы досмотреть до конца, необходимо определенное мужество. После антракта зал, скажем так, несколько поредел. Спектакль непростой, но впечатление производит.
Восемь снов. Восемь мучительных кошмаров, которые изматывают не только породившего их, но и весь зрительный зал, неведомым для себя образом провалившийся в пучину этого нескончаемого фантасмагорического бреда. Удары, сотрясающие сознание зрителей, погружают в себя как само действие, так и весь зрительный зал вместе взятый. Все превращается в единый организм, сотни сердец сливаются со звуками ударов, начиная биться в едином заданном такте. Далеко не всем удается подобное выдержать, и определенный процент предпочитает "проснуться" уже в течение первого получаса... (Впрочем, вполне стандартный процент)
Примерно столько же - полчаса - длится и первый сон. Его предлагается увидеть глазами больной тифом Серафимы Корзухиной, которую трясет от жара. Это какой-то другой уровень реальности - есть она, а есть все остальное, находящееся вне фокуса: вокруг проносятся обрывки реальности, полуфразы, крики, люди; происходящее отрывисто, бессвязно, размыто. А зритель... он полностью погружается в действие. Оно ощущается на физическом уровне - сознание бахает, все органы сокращаются от чудовищных ударов. С первых же минут спектакля врубаются просто убийственные низкие частоты, выдержать которые готов далеко не каждый. Первые полчаса они долбают вообще без остановки, да и по ходу спектакля становятся его неотъемлемой частью. Причем когда они вдруг обрываются, тело продолжает само, по инерции раскачиваться вперед-назад. Пару раз закладывало уши, но.. без этих низких частот не было бы такой степени погружения. Как зрителей в действие, так и самого действия в эту новую материю.
Музыка, которая сопровождает спектакль.. Это не просто "дополнение к..", это часть самого действия, неотъемлемая смысловая единица. Музыка, переходящая в эпическую какофонию звуков, криков, мелодий.
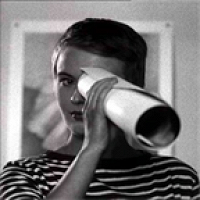
наверное, ещё напишут : о снах о чём-то большем, тяжёлых снах;
о психоделической реальности - больной головы,
держащей за горло действительности;
о распадающемся на паззлы сознании - сюжете;
о бесконечности пробуждения и невозможности пробуждения;
об убегающей от нас жизни и нас, убегающих от жизни; о тишине падающего листка, капли воды, - раскачивающей дом, сердце;
о том, как вываливаешься яблоком из корзины сна, о войске Господнем -
о вспышке света - о побежавших тараканах из твоей раскалывающейся головы,
о том, что - чтобы хоть как-то достойно сказать об увиденном -
нужно сделать что-то подобное ему - подставить зеркальца в эти сны -
и не дать тебе спать.
и если вдруг представить всё это чередой безупречных кошмаров,
то самое прекрасное в них -
образ Оленьки - или смерти - или чего-то неведомого и завораживающего -
и, может быть, это-то и есть самое страшное )

Юрий Николаевич Бутусов - режиссер-маятник. Он раскачивает сознание, погружает в свою реальность, в нужные моменты возвращает в современность и в финале получает - удар в сердце зрителя. Режиссер сердца. Ему удается совместить несовместимые вещи - космические декорации, нелепые тексты песен, местами яркий грим и несвязный текст повествования.
В этом и кроется феномен Бутусова, и я очень рада, что нам посчастливилось жить в одно время с Юрием Николаевичем.
Лирика лирикой, а теперь по делу. Какой же "Бег" в видении Бутусова на сцене театра Вахтангова? "Бег" - для любого зрителя:
🔸 для того, кто не знаком с творчеством Бутусова и Булгакова - поймете все, пусть не глубоко, но сюжет понятен (советую фильм для лучшего восприятия спектакля);
🔸 для того, кому нужен "удар в сердце", кому нужна бутусовская подпитка;
🔸 для того, кто неравнодушен к актерскому перевоплощению Виктора Добронравова, Артура Иванова, Ольги Лерман.
Каждый найдет свой лакомый кусочек. Лично у меня не случалось мурашек по телу, но сердцебиение учащалось, а мыслями я была в другом измерении. Для первого знакомства с творчеством режиссера я бы выбрала "Бег".

Спектакль вызвал столько мыслей, переживаний и чувств, что написать внятный отзыв у меня не получится. Но все-таки хочу сказать - это гениально. А как иначе это назвать, если на сцене вполне материальными силами (режиссера, актеров, художников, сценографов, звукооператоров, и всех всех всех кто принимал участие в создании этого спектакля) явлены в чистом виде - сны, видения, бред, боль, страх, отчаяние, гибель людей и страны. Для «посвященных» - на мой взгляд, это одна из самых лучших работ Юрия Бутусова. Для «непосвященных» - если вас не пугает все новое и непривычное, если вы не боитесь вдруг выпасть из своего времени и оказаться в Крыму в 1920 году, среди больных, несчастных и страшных людей, и если вы не считаете, что театр заключается только в том, чтобы актеры оделись в костюмы эпохи и произнесли хорошо поставленными голосами текст, - идите и смотрите. Но если боитесь, лучше не ходите!

Сегодня была моя вторая встреча с этим спектаклем. С первого раза он мне запомнился как что-то масштабное, грандиозное. Но тогда я еще не знала Гоголь-центра… Сегодня такого колоссального впечатления он на меня не произвел. А еще в тот раз я услышала о нем такие слова: "Он может нравиться или не нравиться, но смотреть этот спектакль нужно обязательно". Абсолютно согласна, но вот не знаю, к чему я склоняюсь больше, нравится он мне или нет. Отдельные сцены точно да, и второе действие гораздо больше, чем первое. Спектакль, на мой взгляд, нетипично для Бутусова академический, и он сложный для восприятия. И темпоритм первого действия убаюкивающий. Это немножко не мое, это факт. В театре Вахтангова есть другие спектакли, на которые я с удовольствием приду не раз. Приду ли я еще на "Бег"? В конце первого действия я говорила нет, в конце второго: вероятно да. Там есть очень классные сцены и замечательные актерские работы. Артур Иванов – это громкое многократное браво!!!!! Он шикарен!!! С первого раза я запомнила только его. Сегодня еще отмечу Виктора Добронравова, Екатерину Крамзину и Валерия Ушакова. Последние два сна вообще чудесные! Спасибо! А в качестве вывода скажу следующее: если вам тяжело идет первое действие, и вы подумываете уйти в антракте, лучше останьтесь. Два действия – это будто два разных спектакля.

Записки дилетанта.
№ 42. Театр Вахтангова. Бег (Михаил Булгаков). Режиссёр Юрий Бутусов.
«Да ниспошлет нам всем господь силы и разум пережить русское лихолетье!».
8 кошмарных снов Юрия Бутусова.
Пьесу «Бег» Михаил Булгаков написал в 1927 году. Вот какую характеристику произведению дал сам Сталин: «Бег» есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины». Соответственно, опубликована она была лишь 35 лет спустя, а впервые поставлена на театральной сцене только в 1980 году и особой популярностью у режиссёров так и не пользовалась.
Спектакль, как это принято у Юрия Бутусова идёт 3 ч. 50 мин., но это тот случай и тот режиссёр, когда хочешь, чтобы "лето не кончалось". Автор рассказывает историю «побега» или «бега» белогвардейцев и сочувствующих им из России в годы гражданской войны. Персонажи имеют реальных прототипов (Хлудов, Чарнота, Африкан, Главнокомандующий, Люська). Героев постепенно «вытесняет» всё дальше и дальше прочь к границам страны – действие или восемь «снов» происходит последовательно сначала в Северной Таврии (Север Крыма), далее в Крыму, а кончается уже в Константинополе (с «визитом» некоторых героев в Париж). Ситуация складываются для них трагически - общество расколото, прошлая жизнь перечёркнута, каждый день тебя могут убить. В таких критических условиях, когда находишься «на грани», доведён до предела, лишён дома, имущества, разорён, истощён и морально и физически, приходится «выворачиваться наизнанку» чтобы выжить. Сбрасываются все маски, обнажается самая суть. Порядочным людям оказывается труднее противостоять подлым обстоятельствам, вписываться в них. Проходимцы же, как водится, оказываются наиболее живучими и приспособляемыми к любой беде. В ком-то ломается нравственный стержень, другой остаётся неколебим несмотря ни на что, а у третьего внутри уже всё сломано давно. В итоге судьба рассчитывается со всеми по-разному: лишает или наоборот, одаривает деньгами, кого-то забывает, у иного выход остаётся только в самоубийстве; тех, кто долго шёл друг навстречу друг другу награждает вымученной, но счастливой любовью.
Юрий Бутусов – режиссёр контрастов и сложных тем, часто связанных с проблемами выбора пути. Мощные экзистенциальные разломы, когда против человека восстаёт весь мир, когда приходится поступать вопреки предательским обстоятельствам – благодатная почва для режиссёрских дерзаний. Булгаков описывает восемь «снов» и Бутусов, понимая их почти буквально и воплощает на сцене восемь тяжёлых, кошмарных и полубредовых сновидений, «снящихся» разным персонажам, похожим скорее на свои собственные искажённые тени. Они то просыпаются, то снова впадают в «кому». Авторская визуализация «снов», воспалённых и болезненных, наполнена образами из оголённого подсознания, это главный режиссёрский приём спектакля. Мрачные декорации под стать содержанию – в половине сцен сцена наглухо закрыта железным занавесом, а лучшие 16 мест в партере занимают чучела повешенных солдат с мешками на головах. Слева на стене висит чёрный флаг, справа барабан. Далее начинаются восемь горячечных «снов». И если в первой части спектакля логика режиссёра улавливается вполне, то во второй угнаться за полётом фантазии становится всё труднее, нагромождение символов становится сложнее, запутаннее.
Сон первый снится загримированной под Пьеро и одетой в чёрное Серафиме. Именно в её воспалённом тифом сознании проносятся обрывки диалогов, фраз, крики отчаяния: «Белые!... В двуколку её!... Да у вас жар!». Раздаётся грохот, скрёжет. Вокруг снуют какие-то люди, бесконечно подносящие воду в стакане; рука, держащая стакан, безжалостно трясётся, расплёскивая воду. В висках оглушительно пульсирует стук сердца под плотные, громкие, устрашающие звуки. Течение времени изменяется. Тревога и страх в мрачной атмосфере ожидания и неопределённости и непонятности нарастают; драматический эффект усиливается до пика, почти до ощутимого ужаса. Это визуализация затуманенного сознания, галлюцинаций, бредовых образов. Болезненная реальность разорвана, обессмыслена. Вот, появляется Смерть… и проходит мимо. Серафима падает со стула так и не приходя в сознание.
Спектакль с первых же минут производит такое сильное впечатление, что писать про режиссёра хочется не меньше, чем про автора пьесы. С самого начала спектакля Бутусов идёт «во все тяжкие», пуская в ход весь свой инфернальный арсенал: рваное, нелинейное повествование, нашпигованное внезапными, парадоксальными интерлюдиями; смена темпа от стремительной суетливой беготни до неожиданных смысловых пауз, когда за десять минут не произносят ни слова; многочисленные повторы одного и того же действия, но с вариациями; желание напугать, шокировать – чего стоит гипнотически жуткий образ Смерти из фильма ужасов в виде медленно проплывающей девушки с неестественно вывернутыми назад руками, у которой не видно лица, с мерно качающимся подолом белого платья, похожего на раскачивающийся (поминальный) колокол или же когда один из «повешенных» с мешком на голове, рассаженных в первом ряду внезапно оживает и встаёт; одни и те же актёры, играющие по несколько ролей; буквальность, когда события в прямом смысле калечат Хлудова и он становится меньше ростом, горбится и с трудом волочит неестественно вывернутые ноги, за которым тащится «груз воспоминаний» в виде привязанной красной табуретки или же «проваливающийся» по тексту Африкан, проваливающийся в прямом смысле в зрительный зал; изображение ужасного в виде комического, когда страшная раскалённая игла, напугавшая и заставившая Голубкова написать донос на Серафиму выглядит не то что не страшной, а нелепой в руках кривляющегося Скунского; контрасты, когда трагическое вдруг прерывается появлением женского квартета, бойко исполняющего американский шлягер середины прошлого века или же когда Хлудов в полной тишине расставляя перевёрнутую мебель начинает уморительно смешно бормотать всякую чепуху себе под нос, а уставшие от напряжения зрители с удовольствием смеются и расслабляются и наступает эмоциональная разрядка, все понимают, что это трюк, но приятный; особая композиция, взятая на вооружение из живописи, в которой на фоне глубокого мрака располагаются подсвеченные актёры, напоминающая картины Рембрандта, использующего тёмный грунт; цветовые акценты, замечаемые то тут, то там, особенно в гардеробе (преимущественно красного цвета); отсутствие «красивых» декораций и их второстепенность, вспомогательная роль, которые в основном, чёрт знает из чего состоят; «метаморфозы», когда Хлудов превращается, словно у Кафки, в быстро сучащего мелким лапками таракана, участвующего в тараканьих бегах, в остервенелых движениях которого угадывается безысходность и горечь от проигрыша последних денег; использование любимой режиссёром современной музыки и песен (Океан Эльзи, «Чёрный ворон», «Я остаюсь» Крупский сотоварищи), чтение книг (Библия, Книга Исход) и стихов (Иосиф Бродский, Владимир Маяковский, Сергей Довлатов).
К слову, композиция «Я остаюсь» оглушительно прозвучала целиком, от начала до конца, под эмоциональный танцевальный аккомпанемент Артура Иванова играющего генерала Чарноту, в которой можно угадать ответ режиссёра на вопрос, который обязательно зададут.
Сама необычность подачи материала говорит о применении методов Брехтовского «эпического театра» так любимого Бутусовым - методов отчуждения и дистанцирования. Режиссёр нередко оставляет включённым свет в зале; помещает актёров в зрительный зал или заставляет появляться из ложи; произносятся монологи, обращённые в сторону зрителей, но звучащие отстранённо, «в никуда»; происходят «передёргивания» - всё это заставляет зрителей взглянуть на происходящее иначе, с изнанки и не оставляет шанса ни заскучать, ни опомниться.
В очередной раз Юрий Бутусов эпатировал, пробил брешь в сознании, выпотрошил, опустошил эмоционально, шокировал, профессионально и талантливо играя на неведомых струнах, трогая до глубины души, переворачивая всё внутри… Как же это прекрасно! Как и в случае с «Чайкой» (с которой, правда, не разобравшись, поначалу хотелось убежать, но после лихорадочного чтения рецензий в антракте: «что здесь вообще происходит?!» всё встало на свои места), к концу спектакля выкристаллизовалось понимание, что на сцене случилось нечто выдающееся, то что хочешь увидеть и пережить снова.