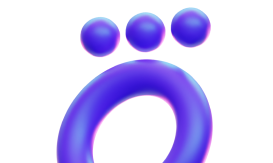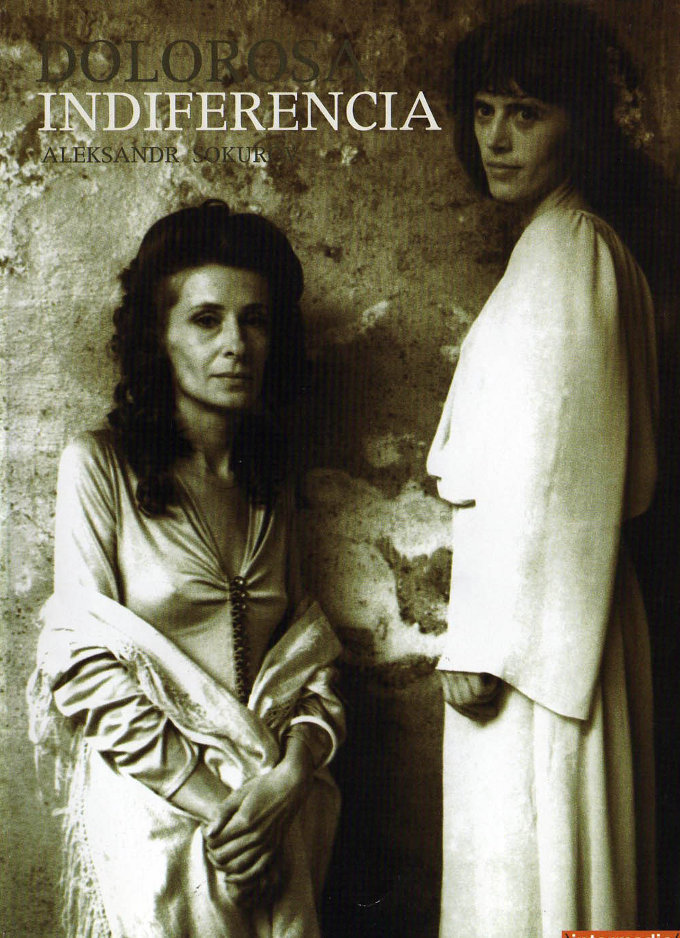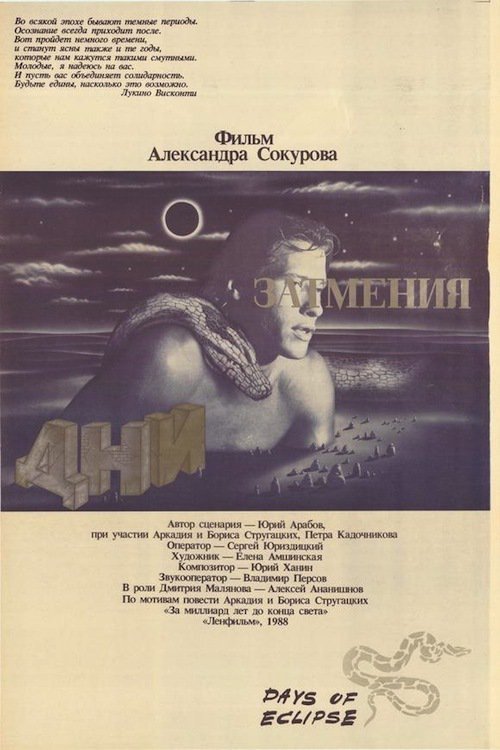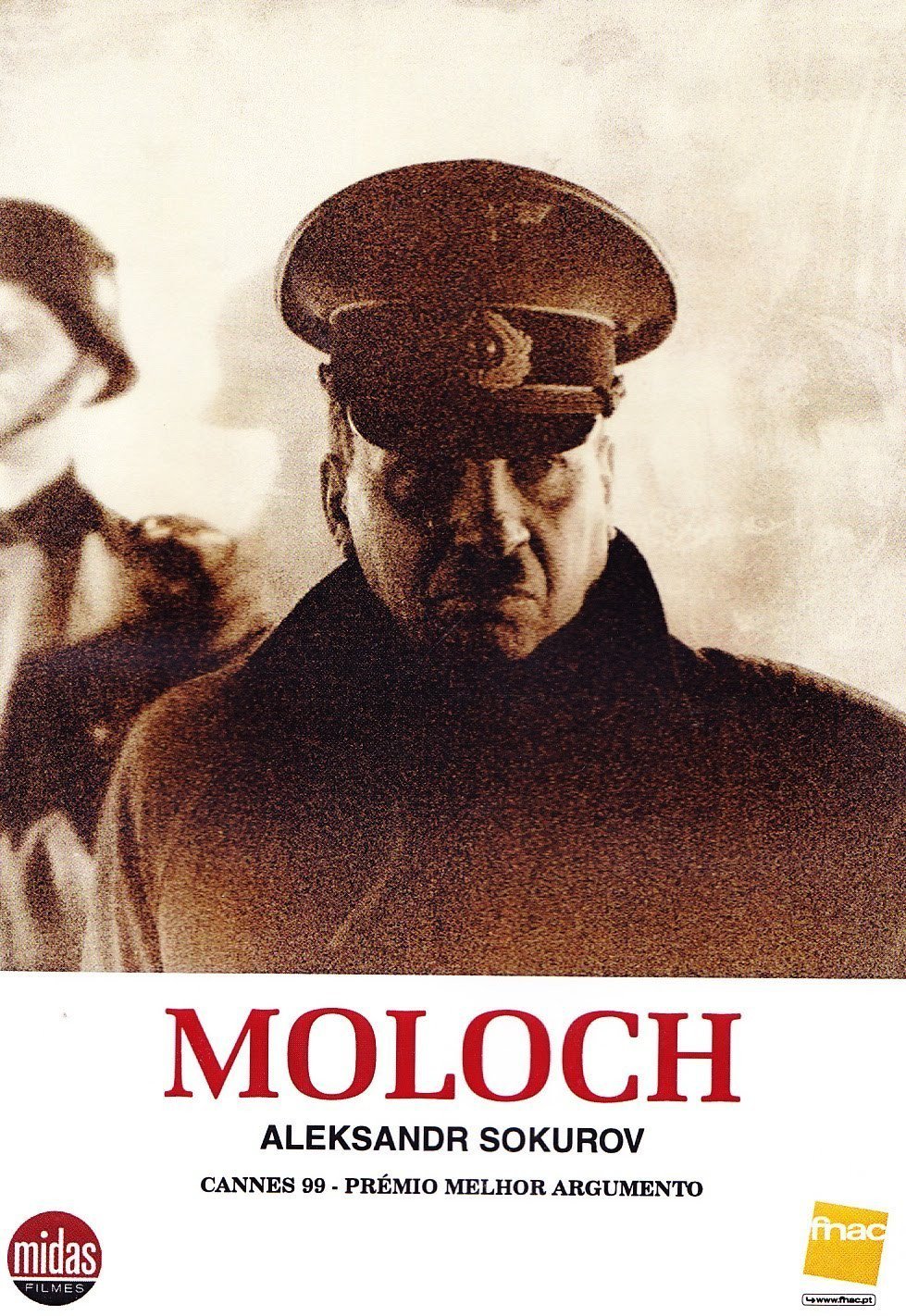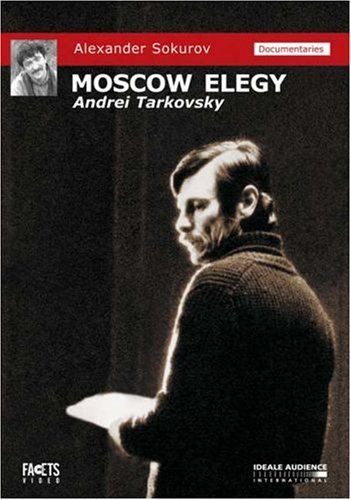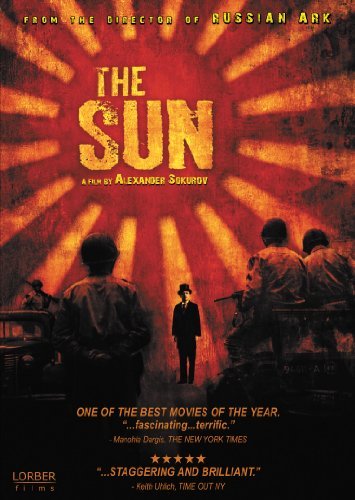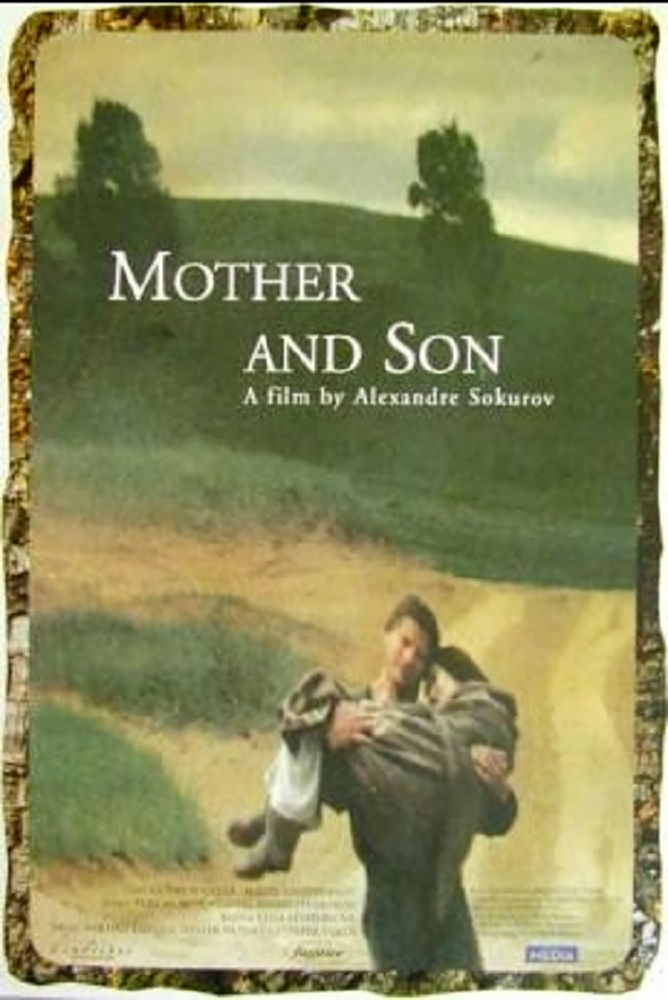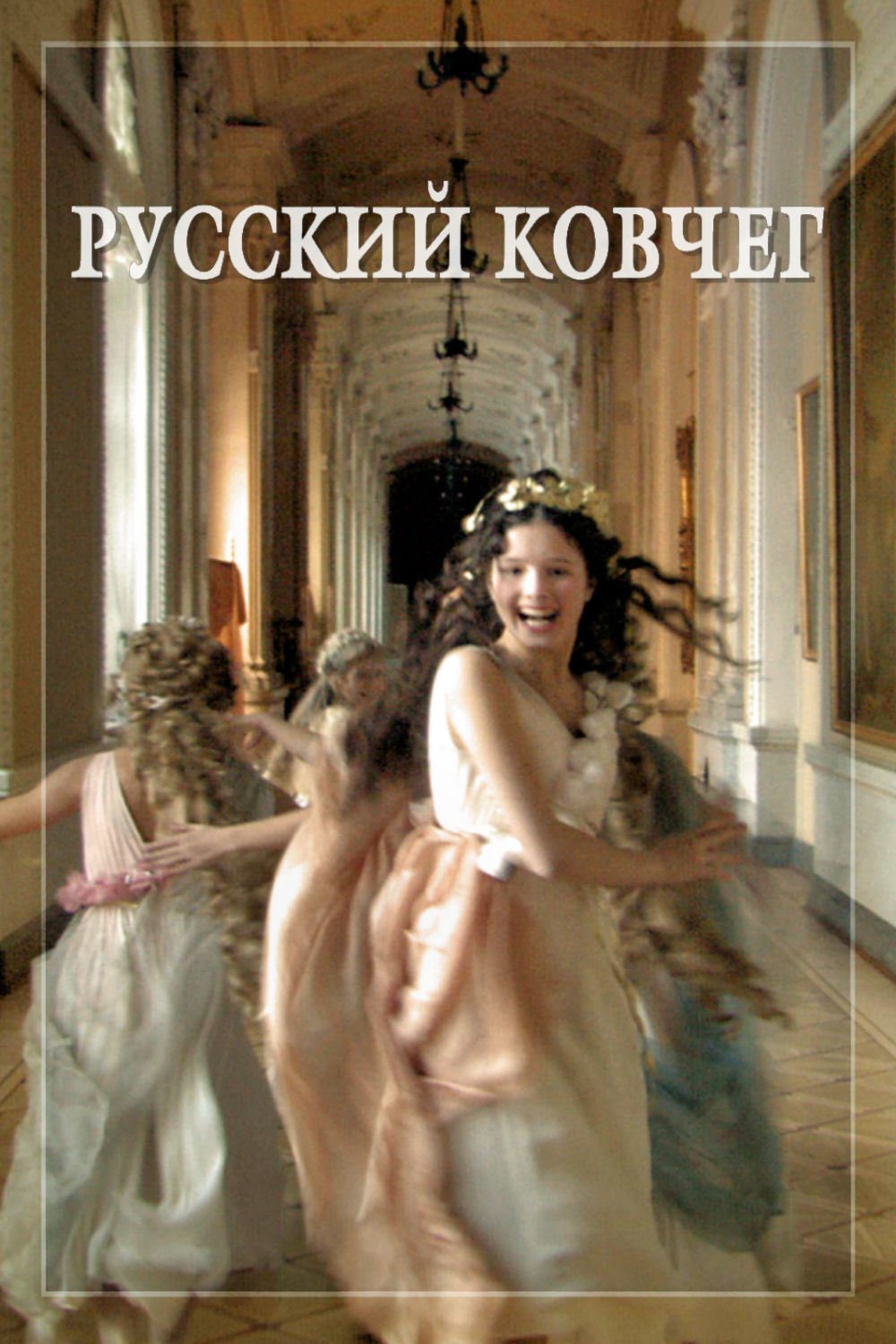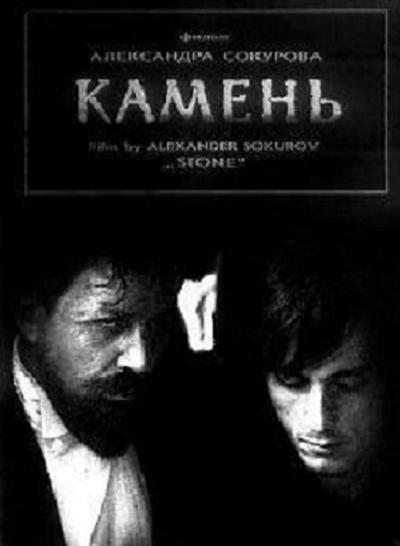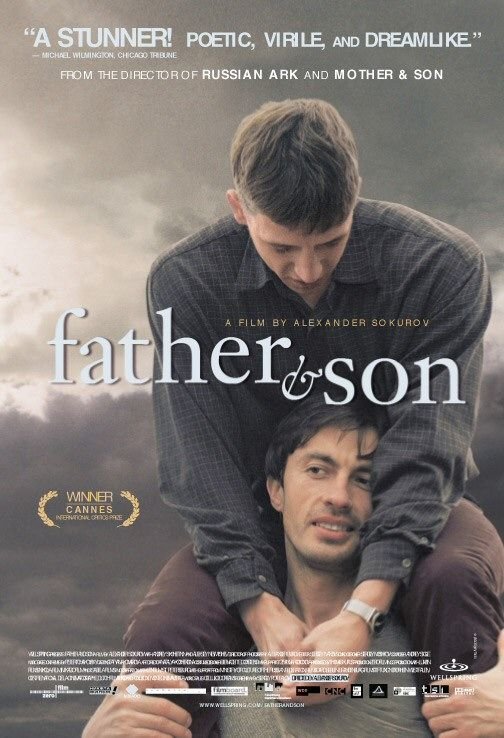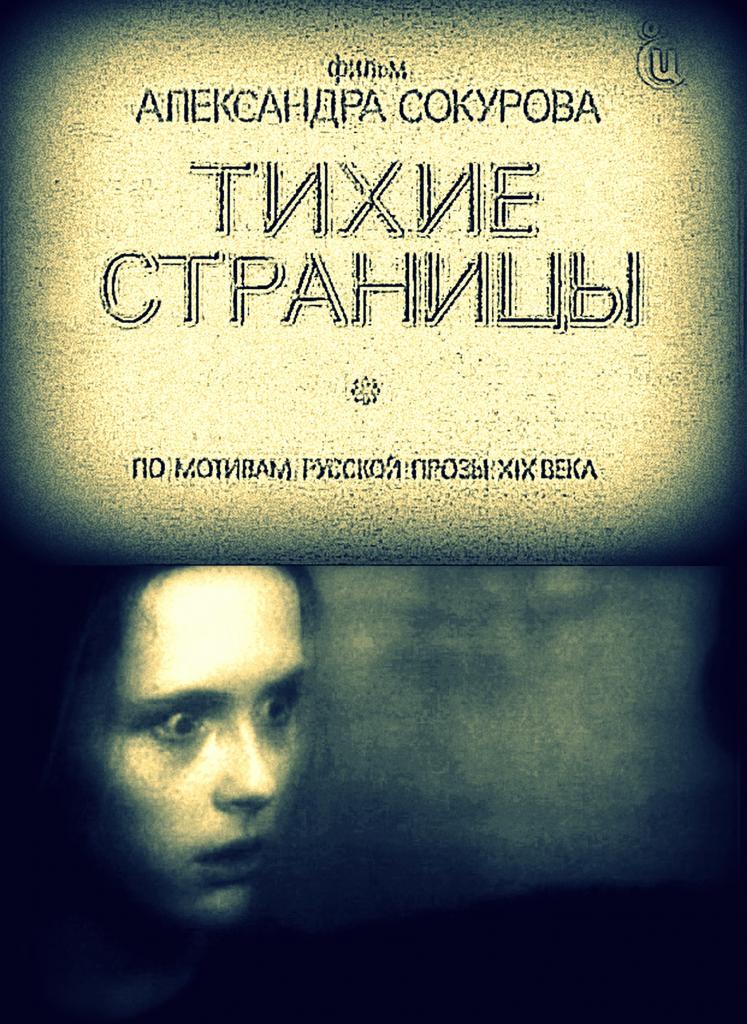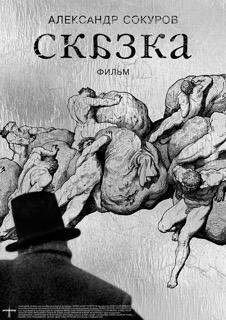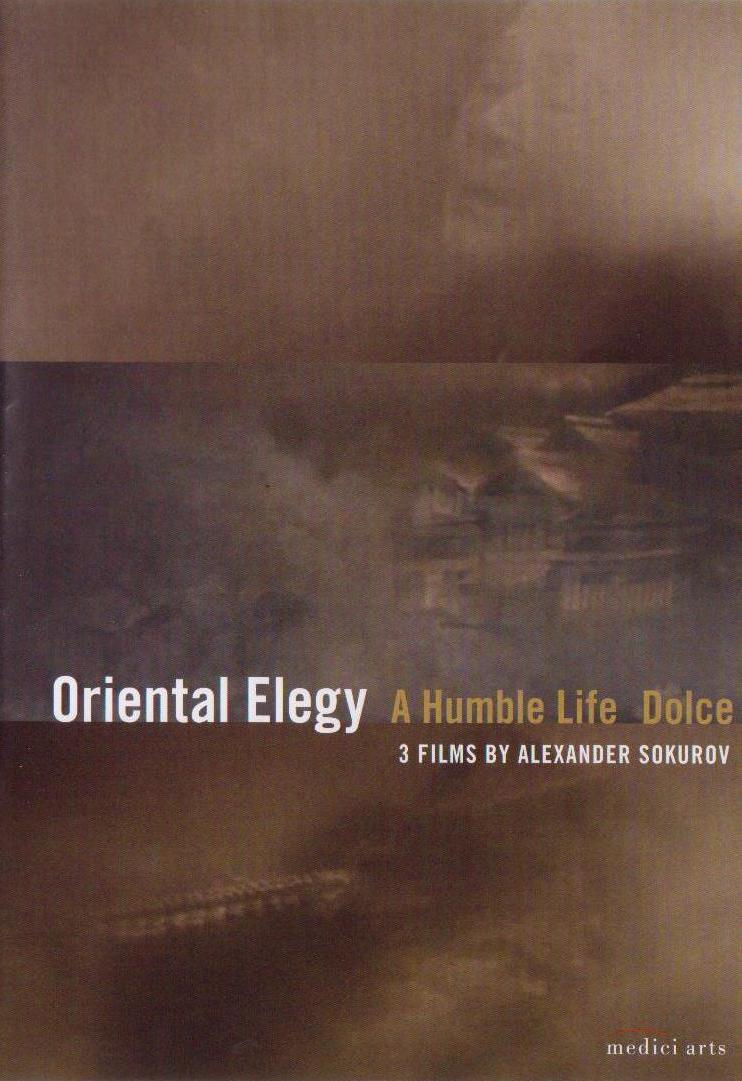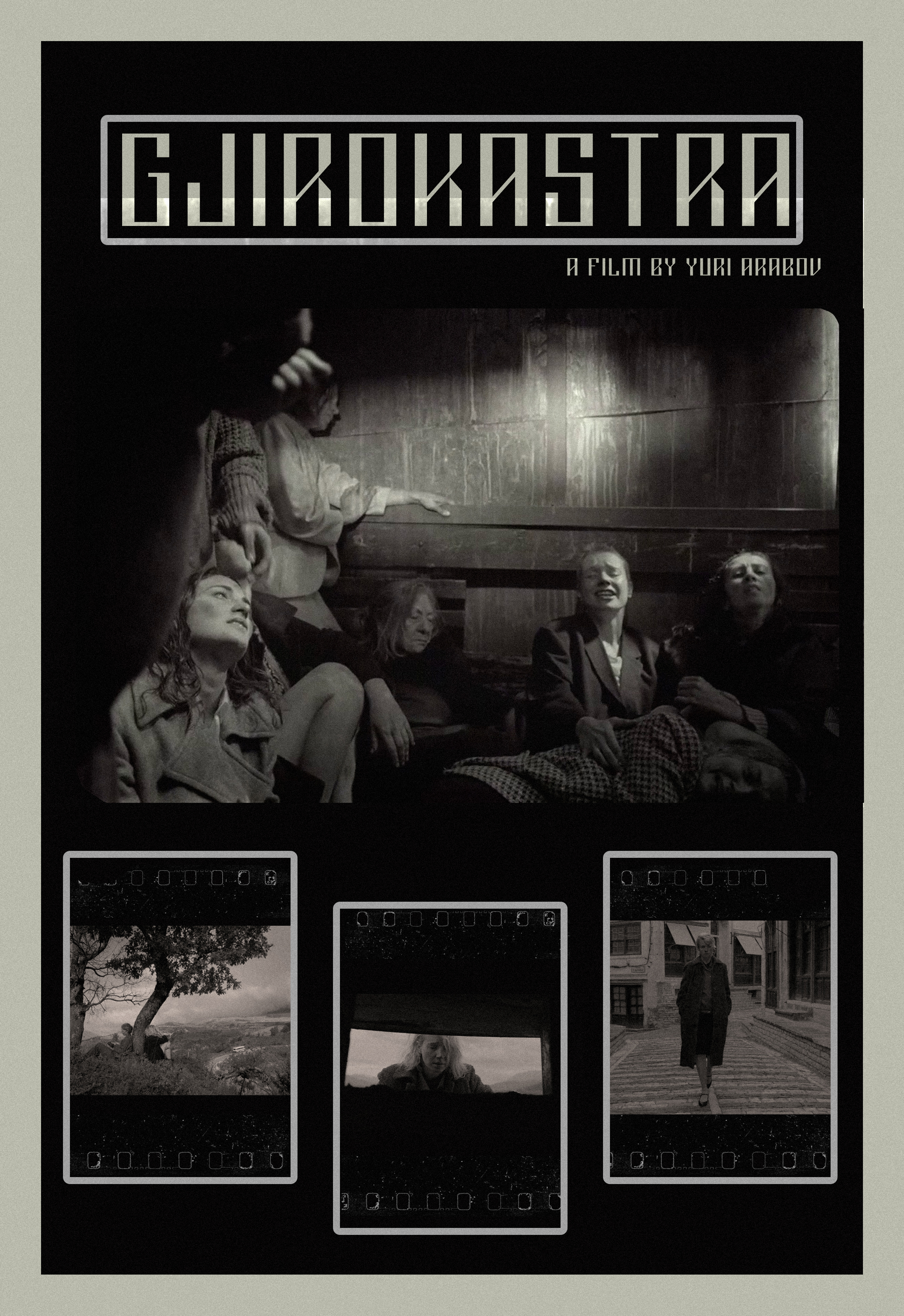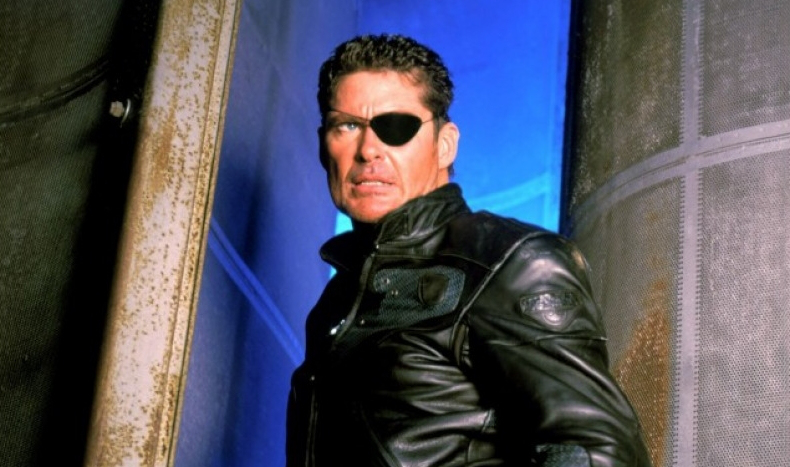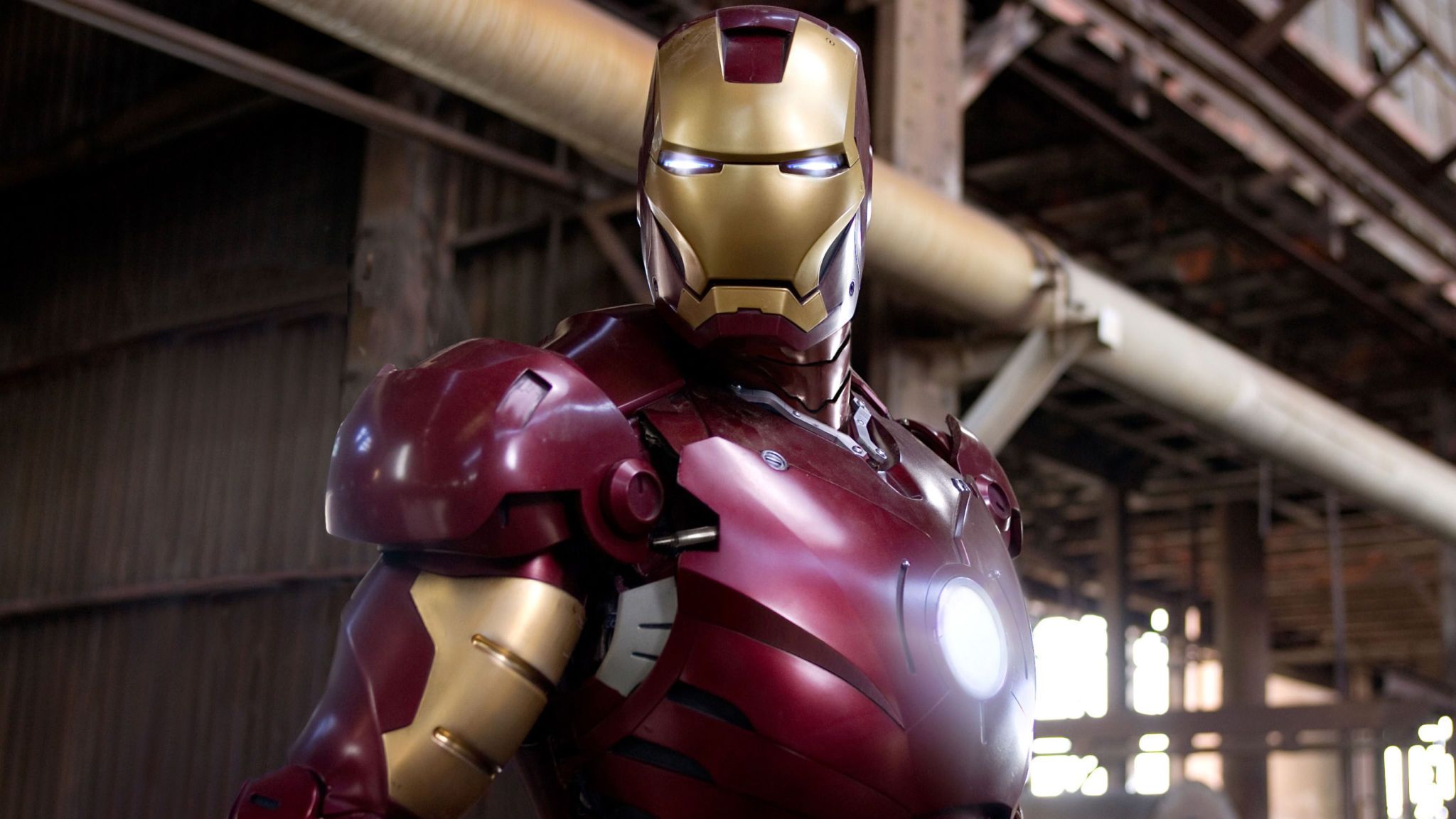Фильм Александра
Россия, Франция, 2007

Бабушка из Ставрополя приезжает в Чечню к внуку-контрактнику и на месте знакомится с ситуацией. Что-то смекнув, уезжает. По общему мнению, Вишневская символизирует таким образом Родину-мать.
| Драма |
| 12+ |
| Александр Сокуров |
| 25 мая 2007 |
| 3 июня 2007 |
| 1 час 30 минут |
Другие фильмы Александра Сокурова
Участники
Рекомендации для вас
Популярно сейчас
Как вам фильм?
Рецензия Афиши

Пожилая женщина Александра Николаевна (Вишневская) приезжает в Чечню. Тяжело спускается с бронепоезда, тяжело поднимается на танк, опираясь на руки солдат, — по-другому до военной части не доберешься. Там в огороженных колючей проволокой бараках живут рядовые и офицеры, один из которых — ее внук. Она проведет с ним несколько дней, сходит в самоволку на местный базар, где познакомится с чеченцами, а потом сядет на поезд и уедет обратно в Ставрополь.
Новый фильм Сокурова легко понимать как очередную притчу — их всегда был перебор в нашем кино, в том числе и о Чечне. В героине Вишневской невозможно не разглядеть Родину-мать. Внук ее Денис — архетипический русский солдат на кавказской войне, он даже разговаривает, как Печорин.
Но даже если это и притча, то точно не «очередная». «Александра» состоит в каких-то совершенно новых, неожиданных взаимоотношениях с реальностью. Выжженный солнцем и цветокоррекцией клочок земли за колючей проволокой можно было снять в павильоне или в Дагестане, но Сокуров снимает его в Грозном и Ханкале. Перфекционизм его не напрасен: подлинность натуры (как и парадоксальная правдивость неестественных диалогов) воздействует на зрителя совершенно иррациональным образом. Если может существовать документальная притча — то это она. В «Александре» ничего не сделано в лоб. Все, что может напугать, остается за кадром — в фильме не звучит ни один выстрел. Но вот утром солдаты чистят оружие — значит, ночью была стрельба? Вот двух рядовых как бы невзначай утаскивают за ворота местные жители. Посадят в зиндан? Про дедовщину тоже ни слова, но куда эти трое повели одного? Миссия Александры также остается непроясненной (не говоря уже про тайну их общего с Сокуровым имени-отчества). Вишневская ничего не играет: она живет в этой картине — ворчит, принимает помощь окружающих как должное, игнорирует фронтовую дисциплину, опасность. Не собирается никого жалеть, никого спасать. Как и полагается Родине, она придирчиво инспектирует, но не дает советов, не утешает внука, ничего не отвечает чеченцу, который просит: «Отпустите нас». Но все — и военные, и чеченцы — как-то естественно и без усилий признают ее право и на ворчание, и на собственную железную волю.
Определенности, политических деклараций нет и в диалогах. Бабушка встречает внука после семилетней разлуки и говорит ему, что все мужчины прекрасны. Внук отвечает: «Все женщины одинаковы» и «Офицером себя не чувствую, потому что много народу пострелял». Вопрос про зинданы Александра Николаевна чеченке задать не решается — говорят про старость, качество чая и про то, что все женщины — сестры.
Но помимо странных разговоров есть в этом фильме еще безмолвный контакт глаза в глаза, есть обмен какой-то невербальной информацией, всепроникающее понимание, исходящее от героини Вишневской, — и этот скрытый энергетический поток подхватывает тебя и несет через весь фильм, как солдаты несут на руках Родину-мать, Александру Николаевну.
Отзывы

Не смотря на то, что Александр Николаевич называет сюжет картины простым, это категорически не так. Сюжет ленты сверхсложный уже хотя бы потому, что во время просмотра невольно задумываешься – вроде все правильно, но в то же время, не по правилам. А именно, нет ощущения фильма как такового – художественность, практически, сведена на «нет». Зато есть острое чувство реальной жизни, дня сегодняшнего – эффект личного присутствия – все равно, что остановиться у окна и посмотреть на улицу.
Пожилая женщина Александра Николаевна – героиня легендарной оперной певицы Галины Вишневской – приезжает к своему внуку, который служит в Чечне. На протяжении нескольких дней она ходит по территории военной части, смотрит, как живут солдаты, знакомится с местным населением, и никому не объясняя, зачем она здесь, старается понять для себя что-то очень важное. «Чем-то пахнет…», - шепчет себе под нос Александра Николаевна. «Оружием и солдатами. Привыкай…», - отвечает внук. В этом и заключается сюжет картины, за все время которой – не смотря на место действия: Грозный, Ханкала – не раздалось ни единого выстрела. На фоне человечности «Александры» - где крупным планом взято умение говорить и слушать друг друга – пальба была бы пошлой нелепостью. «И уже нет никакой речи о разном происхождении, разной крови. Когда возникает доверительная интонация, все остальное становится незначимым», - объясняет сам режиссер. «Вот мы смотрим на русских солдат… Какие-то они маленькие, как мальчишки. Вроде и пахнут мужчинами, но все равно, как дети», - произносит в беседе с Александрой Николаевной жительница чеченского села. «Не похож ты на офицера. Мужиковатый…», - вздыхает героиня фильма. «Может быть, я бы и чувствовал себя офицером, да столько народу пострелял… Это мне чести не добавляет», - отвечает он и вдруг поднимает суровую грузную бабушку на руки, точно целую жизнь… Или родину. И бережно несет по пыльной бетонке части – мимо казарм, орудий, БТР. Пожалуй, не только самый сильный момент картины, но и самый главный. «Александра» - своего рода, продолжение таких картин Сокурова, как «Мать и сын», «Отец и сын», «Восточная элегия», «Смиренная жизнь», «Дольче» - где в первую очередь показываются взаимоотношения поколений.
«Среди героев — военнослужащие, солдаты, офицеры и местные жители», - говорит Сокуров. И, действительно, особенность «Александры» в том, что в фильме, кроме Галины Вишневской, специально для которой и был написан сценарий, нет ни одной известной персоны, ни одного актера с именем. Это также не случайно, как отсутствие беллетристики войны. Боевые выходы лишь обозначены, а люди – «ребята с нашего двора». И все, что обычно отвлекает внимание на себя, здесь угадывается на интуитивном уровне. Внука Александры Николаевны, капитана разведроты, мог бы сыграть любой популярный, хорошо знакомый зрителю, артист с большим «военным» опытом в кино – тот же Алексей Кравченко, Игорь Лифанов или Алексей Серебряков. Но Сокуров видел в главном герое персонаж лермонтовского типа – немного фаталистом и не крутым, а трепетным, роль которого исполнил непрофессиональный актер, бывший сотрудник ОМОНа Василий Шевцов. Для него фильм «Александра» стал дебютом и, возможно, счастливым билетом в большое кино.

Взгляд небожителя на наш мир и войну в Чечне, на людей по обе стороны этой войны и не может быть другим, на то это и небожитель, что он видит не "сбоку", не как принято и кому-то удобно, а одновременно и сверху и изнутри человеческой души. На то у него и понятие патриотизма не синоним общепринятого "разделяй и властвуй", а скорее ближе к Нагорной проповеди Христа, общечеловеческий, объединяющий людей на самом высоком общем знаменателе, большинством, увы - недостижимом.
Душераздирающий фильм, лично для меня. Я после просмотра уставился в одну
точку, в которой и прибывал долгое время, то, что называется - выпал.
И еще вспомнились мне слова из слепка сознания дочери Банева в фильме
"Гадкие лебеди":
"Мы живем в эпоху тотальных подмен в мире чисел и призраков, в мире, где
все слова стерлись и потеряли свой смысл. Дух окончательно покинул наш мир.
Агония небытия. Дух бесплодия летает над осиротевшей Землей"
Уверен, что зрительская аудитория будет разделена на две основные группы -
скучающая от тотального отсутствия экшена и задыхающаяся от экранной
пыли, и вторая - привыкшая обходиться без наркоза при виде правды.
Это фильм для второй.

Когда вчера в своём вступительном слове к "Александре" какой-то муШчина на сцене произнёс слова про близость документального и вымышленного в кино Сокурова, мне показалось, что я его понял, т.к. был уже немного знаком с творчеством русского режиссёра. Но только в течение самого показа я понял, как сильно ошибался. Как совсем иначе представлял себе эту хоть и смытую, но границу.
Сюжет фильма довольно прост. Александра Николаевна (Вишневская) приезжает в Чечню к своему внуку Денису - российскому офицеру. И её глазам предстаёт НАСТОЯЩАЯ война в Чечне. Нет, не кровавая, не жестокая. Скорее унылая и бессмысленная.
Галина Вишневская, которая, к слову, отыграла в этом фильме просто невообразимо хорошо, для меня предстала олицетворением самого режиссёра. Она в этом фильме сама как документалист. Вот подходит к месту для чистки оружия, и её глазами мы видим и слышим совсем молодых солдатов. Как будто берёт интервью, она спрашивает тяжело ли им в Чечне, не скучают ли они по дому. Интересуется их мнением об этой войне, для чего она нужна ("Родина? А где эта Родина???").
Вот вместе с нею мы попадаем в разрушенный чеченский город. Узнаём, что чеченцы уже совсем обессилели от постоянной борьбы. Один молодой парень - местный житель - произносит: "...Мы уже устали. Отпустите нас!"
И отовсюду звучит голос Сокурова о том, что у этой войны просто нет смысла. Что она стала уже какой-то бесполезной привычкой. Когда командир части задаёт Александре вопрос, зачем она приехала, та отвечает: "Долго воюете. Привыкли. Понравилось".
Ещё довольно показательным мне кажется момент, когда героиня держит в руке Калаш (незаряженный, конечно), нажимает на спусковой крючок и затем произносит "Как легко..." По-моему, и без моих слов всё понятно...
В 99-ом вышел фильм Дениса Евстигнеева "Мама". Вчера мне показалось, что новый фильм Сокурова в большей степени заслуживает именно этого сильного названия.
Очень трогательно наблюдать, как строгий нрав главной героини всё время уступает место материнской нежности при виде молодых солдат. Все они - уже мужчины, но ещё дети. Сам её внук, ещё тот кабан, ведёт себя с нею, как десятилетний мальчишка. И, если честно, я так до сих пор и не понял, почему Сокуров в своём фильме сделал Александру именно бабушкой.
Однажды уже пожилая чеченская женщина говорит героине: "Русские солдаты пахнут мужчинами, а с виду всё равно как дети". Действительно. В течение всего фильма мы видим, как солдаты - от совсем ещё молодых до взрослых дядь, от рядовых до подполковника - тянутся к героине как к чему-то особенно близкому. Иногда они внешне противятся этому, но всё же не могут противостоять тому "сыну", что живёт внутри них.
И на глаза наворачиваются слёзы, когда командир части, прощаясь с Александрой, которую видел в жизни-то один раз, нежно трогает её за руку. Совсем как родную маму.

Сюжет фильма можно свести к двум строкам аннотации: «Чеченская республика, наши дни. Расположение российских войск. Бабушка Александра Николаевна приехала к внуку - одному из лучших офицеров своей части».
В части она проведет несколько дней, после чего уедет обратно домой. В кадре не будет ни боевых действий, ни разоблачений «военных преступлений русских оккупантов», ни «зверств чеченских бандитов и террористов». Старая женщина, в исполнении великой Галины Вишневской ходит по части, разговаривает с солдатами, выходит в город на базар, где знакомится с чеченкой местной жительницей и ее ровесницей.
Весь фильм снят в неопределенных желто-буро-зеленоватых тонах. Кадр то сбивается на откровенную сепию, то приобретает оттенки песка, хаки, и выцветшего брезента.
Зритель наблюдает за тем, как старая женщина вникает в детали армейской жизни, что-то ворчливо выговаривает внуку-капитану, разговаривает с солдатами, ходит по рынку и никак не может запомнить, в какой палатке ее разместили, что ее сильно раздражает.
Для солдат и офицеров Александра Николаевна – это часть той далекой, практически забытой жизни «на гражданке». Каждый военный в фильме пытается чем-то помочь ей или хотя бы на какое-то время задержаться, постоять около героини фильма.
В сцене ужина, когда бабушка капитана ест, собранные дежурным по кухне и поваром, по собственным заначкам гречневую кашу с мясом и салат, они молча сидят и смотрят на нее. В конце фильма даже суровый подполковник украдкой, стоя рядом, пожмет ей пальцы на прощанье.
У нас в искусстве очень долго бытовал, затертый до прорех, образ «Родина-Мать». В фильме Сокурова я увидел образ «Родины-Бабушки», как бы это ни показалось кому-то странно или кощунственно.
Наша Родина состарилась, обессилела, но еще сильна убежденностью в собственной правоте. Она ходит по военной части, интересуясь, «хорошо ли кормят солдат?», «А где офицеры стирают свое белье?». Залезая в БТР, интересуется: «Сколько солдат сюда помещается?» И, услышав, что «около десяти», констатирует: «Тесно!».
Ночью, заплутав в расположении части, Родина-Бабушка забредает на минное поле и, к удивлению часовых, выходит к ним через него невредимой, чтобы, сев на табурет около сарайчика КПП, проворчать: «Чем это у вас везде пахнет? Собак не держите, а запах – тяжелый».
Родина-Бабушка целится из старого автомата «калашникова» и нажимает на спуск, строго и наставительно треплет за плечо запечалившегося молодого бойца: «Держись, ты же - солдат!» и она же, возвращаясь с базара, одаривает дежурных по КПП блоками сигарет и сладким.
Прощаясь на вокзале с новообретенной подругой-ровесницей чеченкой Маликой, Александра Николаевна веско произносит: «Приезжай ко мне в гости. Всерьез приезжай. Посидим, поговорим. У меня к тебе много вопросов».
Огромную роль в фильме играет музыка Андрея Сигле, акцентирующая смыслы происходящего в кадре.
В этом фильме я, неожиданно для себя, в героине Вишневской увидел свою бабушку, дай Бог ей здоровья. Я не то чтобы допускаю, а абсолютно точно знаю, что даже в своем возрасте восьмидесяти четырех лет она бы поехала ко мне в Чечню, служи я сейчас там. И дело даже не в почти портретном сходстве.
Просто у каждого свое виденье образа Родины.

При всем уважении к Александру Сокурову - откровенно никакое кино. Скучное, унылое, и что самое обидное - банальное.
В чем ключевая мысль этой тягомотины? Что война - это плохо? Что все мы братья, вне зависимости от национальности и вероисповедании? Что воют практически дети, непонятно за что и непонятно зачем? Мысли правильные, но подача ближе к наивному лепетанию участницы конкурса красоты, радеющей за мир во всем мире, нежели к драматическому произведению.
Вишневская, расхваленная всеми и вся за феноменальную якобы органичность, играет из рук вон плохо. Откровенно переигрывает в каждом жесте. Причем, что удивительно, визуально из красивой, статной, с благородными чертами лица оперной певицы умудрились слепить абсолютно такую простую русскую бабу, шаркающую по пыльному гарнизону в мешковатом платье и старческих ботиках - но дальше внешнего вида дело не идет. Изображает "бабку" Вишневская на уровне школьной самодеятельности, неестественно кряхтит, окает и бормочет под нос. С тем, что она кряхтит, дело обстоит не лучше - "истины" все в фильме избиты, а диалоги неестественны и фальшивы.
Символы и метафоры, которыми всегда был силен Сокуров, не просто бросаются в глаза, а отдают капитаном очевидностью. Вот молоденький солдатик сидит на корточках напротив Александры, упорно тараща и без того круглые глазенки и всем видом выражая детскую непосредственность и открытость - вот, смотрите! смотрите! - говорит нам режиссер - дети ж воюют! Потом солдатик нелепо хмурит бровки и весь такой суровый (но мы то видим, что всё равно он ребенок!) возмущается: "А чё вы это на меня смотрите та". Ути какой воробышек вихрастый, задира - и вот уже Александра лезет в кулек за булочками. И так весь фильм. Ни кадра без смысла, ни жеста без значения, ни метафоры без кэпа.
Про работу звукорежиссера говорить не хочу, тут уже много писали. Музыка тоже не понравилась - пафосная и словно из закромов Никиты Сергеевича, несущего свет в мир в перерывах между съемками великих фильмов о великой войне. Из того, что понравилось - работа оператора и местами атмосферность. Энергетика Грозного и Ханкалы, в которых проходили съемки, периодически прорывается в кадр сквозь бормотание Вишневской и стрекот кузнечиков.