
Положительные отзывы о спектакле «Утиная охота»
Рецензия Афиши

Спектакль Павла Сафонова по пьесе Александра Вампилова примечателен тем, что режиссеру Сафонову в собственной постановке не осталось места. Все место занял артист Владимир Епифанцев. Он играет Зилова. Некоторые артисты, настроенные играть, а не подыгрывать Епифанцеву, строят свои роли сообразно темпераменту. Ольга Ломоносова в роли жены Зилова Галины с чувством играет драму одиночества умной, искренней женщины, для чего не особо нужны партнеры. Сергей Фролов в роли Кушака дает советскую комедию про смешного функционера, которого молодые раз за разом обводят вокруг пальца. Его партнером становится ностальгическая советская декорация, хотя режиссер и художники, собравшиеся было поиграть в ретро, бросили дело на полпути. Играть в ретро в «Утиной охоте» означало бы реконструировать брежневский циничный застой и злого, неврастеничного итээра, изолгавшегося на корню, но не желающего, как другие, извлекать изо лжи копеечную выгоду или удобства. Но Епифанцев, который мыслился центром композиции, обладает массой достоинств, в которые входит что угодно — только не неврастенический темперамент.
Оставив в прошлом брутальные перформансы, Епифанцев теперь выходит на театральную сцену раз лет в десять. Если он играет сегодня Зилова, то по той причине, что давно хотел сыграть эту роль. И каким будет его Зилов, можно было представить, вспомнив, как он играл другого неврастеника — Треплева — в вахтанговской «Чайке» все того же Сафонова. Его Треплев был не издерганным декадентом, но титаном духа, и драма его заключалась в том, что обыватели отказывались видеть в нем сверхчеловека. Как и Зилов, Треплев стрелялся — от досады, что мир, который давно умер для него, никак не хотел признавать своей смерти. Монолог мировой души — тот самый, где люди, львы, орлы и куропатки превратились в прах и их души слились в одну, — был его личным высказыванием. Он обливал мир горячим презрением — а тот отвечал ему смехом. Так вот, Зилова Епифанцев играет в том же ключе. Друзья присылают Зилову погребальный венок, чтобы, проснувшись с бодуна, тот не понял, на каком свете находится. Но они не догадываются, что для Зилова давно угасли. Друзья, начальник, жена, любовницы, старая и новая, — все они не более чем «бледные огни». Они исправно группируются вокруг него, чтобы иллюстрировать мимикой и жестами его реплики. Его монолог не нуждается в режиссере, хотя все-таки видны в спектакле следы человека, который руководил из зала (кто-то же сказал актрисе, что после слов «их не ругать, их побить нужно» следует дополнительно побить партнера сумочкой). А главным образом он — для которого все уже умерли — не нуждается в пьесе про Зилова, который сам себя чувствует мертвецом.
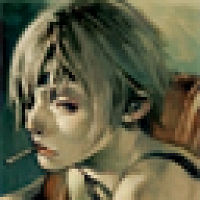
«Утиная охота» - классика, набившая оскомину не одному поколению театралов. Учебники привычно клеймят её «социальной пьесой», а главного героя, Зилова, записывают в «герои времени», то бишь воплощение всех пороков эпохи. «Циник», «ничего святого», «отсутствие моральных принципов», «жалкий человек» - самые мягкие эпитеты, достающиеся бедняге из года в год. Решиться на новую постановку настолько часто склоняемого произведения – уже само по себе смелость, заслуживающая внимания, а если к тому же от постановки пьеса многократно выигрывает, производя значительно большее впечатление, нежели по прочтении, то можно говорить о том, что постановка удачна. Приготовьтесь к глубокому психологическому анализу, который заставит Вас забыть обо всём, что Вы раньше слышали о Зилове – как и наиболее родственный литературный предшественник, Печорин, он гораздо сложнее: в исполнении Владимира Епифанцева это многогранный, энергичный, жизнелюбивый персонаж, чья история предстаёт перед нами не чередой воспоминаний, а логической цепочкой событий. Безусловно, он сам виноват в своих несчастьях, угодив в заколдованный круг лжи и лицемерия, он сам оттолкнул от себя всех окружающих, но стоили ли многие из них того, чтобы их удерживать? Его «друзья» были, скорее, собутыльниками, неспособными увидеть в нём нечто большее, чем неугомонного бабника и изобретательного вруна, а ведь в Зилове был жив романтик – утиная охота была для него не спортивным интересом, а предлогом вырваться из однообразной, косной, пошлой обыденности на лоно природы, к первородной и естественной гармонии, где можно быть самим собой. От одиночества и непонимания он начал страдать прежде, чем его покинули и жена, и любовница, раздражение на тупость, мелочность, трусость других людей копилось подспудно, пока не вылилось в бунт – но всё же это был бунт «маленького человека», основанный не на идее, а на эмоциях, потому он и завершился оскорблениями, пьяной потасовкой и критической стадией духовного кризиса. Разочаровавшись в людях, разучившись им доверять, не находя поддержки в трудных жизненных обстоятельствах, он решит умереть – и это отнюдь не будет блажью или фарсом, но передумает – и это будет не трусостью, а пробуждением погасшей было воли к жизни. Он всё-таки поедет на охоту – несмотря ни на что, и хочется верить, что примирение этого запутавшегося, но сильного и цельного, обладающего внутренним стержнем человека с правдой жизни состоится, что ничто не сломает и не испортит его. Епифанцев играет искренне, с полной самоотдачей, возрастающий градус волнения ощущается в нём почти физически и не может не вызвать максимального сочувствия к его персонажу. Под стать ему и удивительная Галина (Ольга Ломоносова), по-настоящему плачущая на сцене – без яркой и громкой экспрессии, трагического пафоса и сантиментов она рисует образ настолько сильный и масштабный, что одного её секундного присутствия в мизансцене хватает для того, чтобы напряжение атмосферы достигло максимума. Можно было бы что-то сказать о каждом актёре – на самых второстепенных ролях они создавали полноценных живых героев, характерных и интересных, не скатываясь ни в плоский типаж, ни в нарочитую карикатуру, но это заняло бы слишком много времени и места, тогда как похвалы достойны и лаконичная сценография, и музыка, и свет, и современное звучание при внимании к букве автора. Проще говоря, спектакль близок к безупречности – качественно скроен, цепляет и заставляет задуматься, хоть режиссёрскому почерку и не хватает некоего изящества: полная картина постановки видится на расстоянии больно прямолинейной.
19.06.2010
Комментировать рецензию
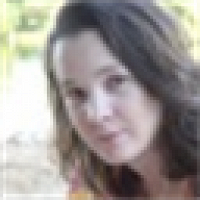
К герою пьесы "Утиная охота" невозможно отнестись равнодушно. Он пропитан своей эпохой и знает оттуда всех Вер и начальников. Хотя сейчас Я говорю о вне временной философии отношений между мужчиной и женщиной.
хочется сделать крен в сторону 70-х. Режиссер представил его открытым и чувствственным мужчиной, но только в один определенный промежуток времени: для жены, для любовницы, для возлюбленной. То есть в нем нет чего-то, что делает его человеком в долгосрочной перспективе. Есть беспробудная усталость от отношений, предметов своей эпохи, времени, друзей. Это все что делает для него утиную охоту отдушиной для его мечащейся по эпохе душе, а не просто бойню через огонь и порох. И видно поэтому он не может не отждествить дичь с предметом, у которого есть душа. Не может хладнокровно взести курок. Наверное поэтому ставит перед собой в финале задачу навести ружье на самого себя. Или как там дальше?
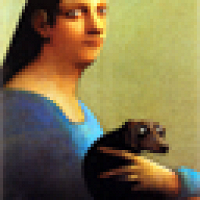
Зилов - сложен и замучен. Уставший сам от себя циник, готовый до обсурда распинаться и кривляться перед неинтересными и предсказуемыми товарищами.
Утиная охота - о слабости и злости на нее, о пресыщенности, о безделии и игре в жизнь.
Больше всего меня впечатлил не сам Зилов, а Официант. Вот, кто интересен и загадочен здесь. Ловкий, равнодушный и независимый. Он играет с нервным героем, у него своя охота.
Хорошо и занятно: "-Не вовремя ты расстроился"))
Есть над чем вздохнуть, но как-то недоиграно что ли.
Спектакль оставил грусть и сквозняк одиночества.

Очень понравилось - это если коротко.
«Утиная охота» - классика, к которой надо скорее быть морально готовым к просмотру с моральной точки зрения: к эмоциям, бесподобно переданным актёрами залу, к социуму, ярко выраженному в пьесе и к тому, какие эмоции вас ещё могут настигнуть даже после просмотра.
Игра актёров просто бесподобна! Епифанцев играет Зилова как будто самого себя! Все очень порадовали!
Не могу сказать, что отдохнула умом, потому что постоянно приходится думать, не упускать мелочей, но моральное и эстетическое удовольствие я точно получила!
Очень рекомендую всем к просмотру!
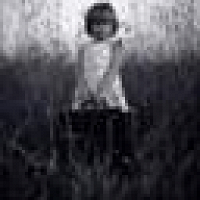
Спектакль очень сильный, во многом благодаря именно Епифанцеву. Он наполнил образ Зилова какой-то животной энергией, это не просто человек с внутренним надломом, попавшийся в собственную паутину лжи, страдающий от презрения к близким своим людям, причиняющий боль жене, любовнице, это человек, томящийся телесно. И в некоторые моменты эмоции героя ощущались просто физически. Наверное, даже энергетика Зилова в исполнении Епифанцева чересчур сильная.
Вообще, редко так бывает, что претензий нет ни к одному актеру. Единственное недоумение - Ирочка, совершенно деревянная, поведение на банкете вообще на двойку - плаксивым голосом кричать "Перестань" - это еще не все, что нужно для раскрытия образа.
Драма Галина в исполнении Ольги Ломоносовой вышла по-настоящему пронзительной, в какие-то моменты складывалось впечатлении неловкости, как будто ты - тайный свидетель чужого интима, чужой глубоко личной драмы. Тонкая, женственная, желающая очень простого бытового счастья, по-началу открытая и беззащитная, в концу превращается в лед. Образ в целом вышел симпатичнее, чем в печатном варианте пьесы.
Образ официанта вышел по-настоящему демоническим, во многом за счет пластики тела актера, иногда даже было не по себе.
Образ Веры, состоящий во многом из эффектных появлений и в общем-то немногих фраз, вполне полноценен - в молодой еще женщине проявляется полное разочарование в отношениях с мужчинами, построенных на искренних чувствах.
В общем, глубоко рекомендую)) Однако далеко не все зрители поняли суть образа Зилова, по окончанию слышала реплики: "И че за герой такой, с жиру бесится?", "И про что это было?" - "Как про что? Кризис среднего возраста у мужика!".
Хочется отдельно высказать фи устроителям спектакля. Может, это конечно разовый случай, в честь 23 февраля, но задерживать начало на полчаса из-за того, что приглашенным некуда рассесться, таскать стулья и выстраивать перед первым рядом еще один ряд для них, замуровывать проход стульями, чтобы на них тоже уселись приглашенные - ну вообще балаган какой-то. Стулья неудобные, короткие спинки, пожилая пара позади меня весь спектакль кряхтела и жаловалась...Зачем было городить огород и выстраивать неудобную трибуну?
Такие отзывы есть нарядные...Страшно нос совать со своей мазней... Но напишу все равно, потому что не написать не могу, потому что нет спору - Молодцы! Вот.
Молодцы! Все молодцы!
Епифанцев - красавец! Так играет свою роль...ну,как будто себя. Реально остается ощущение, что он и есть Зилов - Ай-яй!
А Г-н Фролов пррросто ювелирных дел мастер. Так тонко прорисовывать эмоции героя, каждую мелочь, каждую загогулинку))) при этом так аккуратно, не выставляя напоказ свое мастерство, чтоб вдруг не перебить остальных актеров... и ха-ха! заставил смеяться икренне)). Талантлив безмерно!
Вообще сыграно ладно. Актрисы тоже все умнички. Есть один персонаж, чуть переигрывает вроде. Но не особо, ну старается очень, наверное), сами увидите.
Но, господа! Читайте пьесу перед просмотром! Не поленитесь. После смотреть действительно интересно. Конечно, если сама пьеса вам придется по-душе, мало ли.. на вкус и цвет..

мое мнение:
к спектаклю я была не готова, морально, вот как-то не успела осознать, что это сложное произведение, не была готова к такой эмоциональной игре актеров, а играли они очень сильно.
эмоции через край, как в последний раз.
очевидная боль главного героя реально передается всему залу.
главное, что несет пьеса - это неспособность противостоять обстоятельствам, сделать выбор, быть счастливым и сделать счастливым других.
было чувство, что ты видишь реальную жизнь людей и от этого тебе неудобно, все так правдиво, неприкрыто и, что называется, может случиться с каждым. ты видишь трагедию неординарного и сильного человека, который не может победить по сути ничтожные обстоятельства, губит себя, семью, обижает и отталкивает от себя друзей.
правда иногда казалось, что несколько сцен были затянуты, сцена самоубийства переиграна.
но я не театрал и не критик, так что мне до конца не понять.
но конечно же мне понравилось, так сильно и здорово сыграно!
целиком можно почитать у меня в журнале:
http://silver-fancy.livejournal.com/60678.html