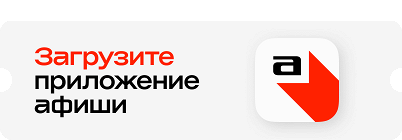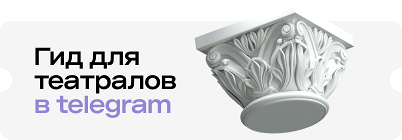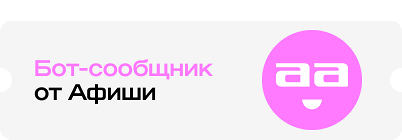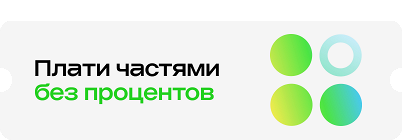| Драматический |
| 16+ |
| Кристиан Люпа |
| 2 часа 45 минут, 1 антракт |
Участники
Как вам спектакль?
Рецензия Афиши

Во время репетиций польский режиссер Кристиан Лупа ходил по сцене Александринского театра босиком и отказался от услуг переводчика, чтобы общаться с актерами напрямую. (Лупа, отец которого был филологом-русистом, понимает и читает по-русски почти идеально, говорит значительно хуже.) Выглядит мэтр, который вот-вот разменяет восьмой десяток, будто седой рослый мальчишка. Лупа — романтик и озорник. И шаман, конечно, во всем, что касается артистов. И результат этого шаманства — первое, что мощно впечатляет в его «Чайке», открывшей нынешний сезон в Александринке.
«Нет никаких новых форм, один дурной характер, верно?» — знаменитая актриса Аркадина (Марина Игнатова) по-соседски запросто, но настойчиво ищет союзников прямо среди публики, прервав бестактными комментариями любительский спектакль сына Константина. Стулья по авансцене спинками к залу, на которые вначале усаживаются все действующие лица, — это ловушка, обман, приветствие через век Лупы Станиславскому и его «четвертой стене». Актеры у Лупы общаются с публикой напрямую, что легко сделать на камерной площадке, но что с этой императорской сцены в этом золочено-бархатном зале не выходило ни у кого: оттого в Александринке случилось множество провалов, и сцену даже признали заговоренной. Лупа наотрез отказался рассказывать историю о мальчике, которого одолели нелюбовь матери, безответное чувство к соседской девушке Нине Заречной, жажда славы и компромиссы с собой — и он пустил себе пулю в лоб. Включив в сюжет зрителя на правах ответственного свидетеля, чтобы тот, помня о финальном выстреле, был вынужден не расслабляться, а выбирать позицию, сам Лупа затеял еще одну захватывающую игру — поединок с Чеховым. Как известно, Чехов отождествлял себя с Тригориным и составил его образ из самоцитат. Тригорин у Лупы (на удивление возмужавший Андрей Шимко) — это образец сегодняшнего медийного человека. Явившись смотреть Костин спектакль, этот важный бритоголовый очкарик, весьма субтильный, распределяется сразу на три стула. Затем устраивает показательную исповедь публике, растолковывая ей, а не Нине, что писатель вынужден врать в угоду потребителю, и призывая эту жертву оценить. Словом, альтер эго Чехова начисто лишено чеховской совестливости и шарма. Лупа при этом играет на стороне дебютанта Кости. Во-первых, наделяет его нежным подростковым обаянием артиста Олега Еремина. Во-вторых, вместо убогой эстрадки с белой занавесочкой выстраивает ему для первого спектакля двухуровневое металлическое сооружение с бассейном-капсулой, в котором эмбрионом барахтается Заречная — Мировая Душа, а на заднике тем временем оживает инсталляция во все зеркало сцены, так что в чувстве формы мальчику явно не откажешь. Но разговор Лупа ведет не о том, о чем ставили «Чайку» в советские 60-е, — не о бездарности старшего поколения, которое гробит талантливую молодежь. За реалистичным первым актом следует второй — экзистенциальный, где действие переносится в сознание то Нины, то Кости. Это и есть главное ноу-хау Лупы — показывать не цепь событий, а смену душевных состояний, как у Джойса и у Тарковского. Когда Нина (Юлия Марченко) касается рукой Костиной декорации, в воздухе рассыпается слышимый только ею тихий, волшебный какой-то звон, в гостиной во время чтения Мопассана Нина рассеянна, потому что на заднем плане ее мыслей бродит Тригорин. Некий персонаж в трико, в программке названный Потерянным — некто вроде духа театра, — увлекает Нину за собой, и тут же на девушку как стая ворон налетают уже не духи, а люди театра, бесцеремонная обслуга во главе с помрежем, так что судьба Нины, поступившей на сцену, становится очевидной. Юношеские муки Кости передает все та же инсталляция, то превращая героя в пульсирующий комочек, то увеличивая его до размеров экрана, то клонируя десятикратно. А в кульминационной сцене, когда Аркадина делает Косте перевязку после неудачной попытки самоубийства, продуваемое всеми ветрами пространство с обломками старого театра на горизонте, наоборот, закрывает огромная красная стена (декорации придумал сам Лупа). Очевидно, это горячая мольба сына о том, чтобы мать и он хоть раз, хоть ненадолго отгородились от остального мира, остались одни, как в детстве. Но тут в одну из двух дверей по-хозяйски входит Тригорин — и бессмысленная стена ползет вверх, причем писатель провожает ее изумленным взглядом. Такая режиссура диктует неожиданный конфликт: Нина и Костя выглядят объемными, содержательными, остальные — и писатель, и самодовольная актриса, и наглый управляющий, и добрый старый дядюшка, и резонер доктор — плоскими, тупыми комическими масками. И Нина, явившись в финале к Косте и прочитав ему безо всяких инсталляций и очень чувственно его же монолог о Мировой Душе, оглядывается на них так, точно они и есть тени, которые уже свершили свой печальный круг в сознании нового поколения и вот-вот угаснут. Выстрел при таком раскладе мог предписать повзрослевшему, но не утратившему искренности Косте только Тригорин — в угоду публике. Лупа уверенно и доказательно предписывает ему наполненную творческую жизнь.
Отзывы
Ужасно не понравилось. Хотелось встать и уйти. Многие так и делали. Вообще для такого исторического, прекрасного драматического театра такие постановки я не приемлю. С собой приглашала друзей из Финляндии. Они были ошарашены увиденным. Если хочется испортить вечер - идите.
Мне не понравилось. Вообще обилие авангарда в Александринке начинает утомлять. Хочется уже чего-нибудь классического, нормального, в меру интеллектуального. Я не говорю - легкого и простого, я говорю - обычного. Потому как обычное на фоне сплошных попыток "пересмотреть" и соригинальничать начинает казаться свежим и новым. Хотя кое-что приятное все-таки было - участие зала в спектакле. Но так ли это бало необходимо?
Уже более чем вековая традиция постановок и экранизаций Чехова придумала и запатентовала в зрительском сознании понятие «чеховской атмосферы»: когда героям скучно и скука эта так по-кошачьи очаровательна и уютна, что самому хочется закутаться в плед на веранде загородного дома, пить чай и вести неторопливые беседы под цокот бесконечных сверчков.
Отсутсвие такой атмосферы – первое, что бросается в глаза в спектакле Кристиана Люпы. Второе, что бросается – невероятная правдивость ее отсутствия. Ведь в скуке, на самом деле, нет ничего очаровательного. В жизни она тягуча и неприятна, именно поэтому все мы стараемся ее избежать. Впечатление от неожиданного открытия усиливает понимание того факта, что Чехов ведь когда-то перевернул театр именно психологической подлинностью своих пьес. Реализмом. Постановщики же за многие годы превратили подлинность в рутину, сделали Чехова сентиментальным. Люпа как-будто заново открывает для нас его текст. И выясняется, что Чехов циничен, жесток, часто иронизирует, но отнюдь не сентиментален.
Артисты в этой «Чайке» совсем не боятся пауз. Наоборот, создается ощущение, что говорят они нехотя и гораздо меньше, чем хотят сказать. При этом за каждым взглядом, каждым молчанием чувствуется огромная внутренняя работа, монологи, которые мы не услышим, невысказанные злость и отчаяние, несбывшиеся надежды, невыполненные обещания. И это тоже жизнь. И это тоже Чехов. Такие, какими мы их уже давно не видели на сцене.
Весь первый акт (сыгранный, кстати, строго по тексту пьесы, в отличие от второго, полного «авторских» купюр) меня как зрителя не покидало ощущение взволнованности, сильного беспокойства, которое достигло наивысшей точки во время треплевского спектакля. Режиссеру и артистам, на мой взгляд, удалось создать какой-то поразительный, целиком построеный на ощущениях эффект «театра в театре». Витающая в воздухе «странность», когда ты прямо кожей чувствуешь (именно чувствуешь), что то, что происходит до спектакля Треплева – это не театр. Это его ожидание. Как-будто люди, оказавшиеся на сцене, действительно пришли посмотреть спектакль («играть будет Заречная, а пьеса сочинения Константина Гаврилыча») и ждут его начала вместе с остальным залом (на который, впрочем, поглядывают с сомнением - видимо, не ожидали). Люпа, кстати, намекает на это введенной им фигурой Неизвестного, который ближе к концу акта поднимается из зала на сцену и занимает один из стульев.
Два акта спектакля непохожи один на другой и, в каком-то смысле, могут восприниматься как два разных спектакля. Лично я вывел для себя такую формулу: первый заставляет чувствовать, а второй – думать.
Второй акт наполнен множеством театральных эффектов: от игры с декорациями и видеоинсталляциями в глубине сцены (которая, видимо, используется Люпой как «зона подсознания»; красная рамка, отделяющая ее от остальной части сцены, неслучайна) до игры с текстом и действием (сцена чтения Мопассана повторяется дважды, как дежа вю; Нина вдруг начинает произносить финальный монолог из «Дяди Вани»). Сквозит своебразный контрапунктный символизм (женщины, перед тем, как изливать душу, снимают обувь). Эффекты эти, впрочем, не отменяют заявленной изначально внутренней «наполненности» каждого персонажа и, соответственно, исполняющего его артиста (их вообще трудно разделить – зазор между ними почти неощутим). У каждого из них – своя трагедия. Единственный персонаж здесь , у которого ее нет – Тригорин. В некотором смысле он сам – трагедия окружающих.
Образ Тригорина вообще демонизирован Люпой. Из текста специально вымараны все куски, «очеловечивающие» этого героя. Он явно никого не любит. Относится к происходящему отстраннено и часто даже с насмешкой. Для него это как игра. Единственный момент откровения – его монолог, обращенный к зрителям, в котором он, по сути, жалуется на то, что не может до конца отдаться своим желаниям, вынужден исполнять какие-то мало понятные обязательства, кого-то изображать, чему-то соответствовать.
Финал этой демонизации – метафора ада, явленная в виде опустившейся сверху красной стены. Тригорин – первый, кто выходит из двери в этой стене, еще до того, как она опустится насовсем. Произойдет это в последнем действии пьесы, спустя 2 года после предыдущих событий. За эти 2 года трагедия каждого из героев усугубилась, сделался окончательно невозможным поворот назад. Ад в жизни каждого – общий ад. Но...
Треплев не покончил с собой. Точнее, может и покончил, но мы этого уже не увидим. Каждый из нас решит для себя сам, спрогнозирует возможное будущее двух еще молодых, но уже успевших не раз споткнуться и оцарапать локти углами дверных косяков, безусловно небесталанных, но судорожно и пока почти безуспешно ищущих пути к раскрытию своих дарований, к счастью творчества, забывших ради этой цели пути к личному счастью, амбициозных художников: Нины Заречной и Константина Треплева.
Люпа, лишив сентиментальности Чехова, сам в конце концов проявляет ее по отношению к молодым героям. Он оставляет им право на ошибку. Он понимает, что в становлении художника это необходимо. Он ничего им не гарантирует. Он лишь дает им шанс. Один шанс на двоих.
Что хочется сказать, удручающее впечатление оставила эта постановка. Не понятно за что Чехов заслужил такого обращения. Одного не могу понять - почему нельзя оставить в покое классику и ставить ее именно "По-классически". Как объяснить например детям, которые ещё не знакомы с творчеством Чехова - что это не он был такой маразматик, а ведите ли - это современное видение режиссёра.
Скучно, очень скучно, местами противно, прямо на душе становится тяжело. Надеялась, что после антракта картина наладится - но стало ещё хуже.
Как итог: вечер насмарку. Совет - не тратьте время.

Какие у вас ассоциации с Чеховым? Вишневый сад, Ионыч, Шинель, Крыжовник, уютное кресло, семейные истории, короткие зарисовки, то самое "над кем смеетесь?? Над собой смеетесь!". С книжкой Чехова хочется чидеть в кресле-качалке на веранде, или смотреть задумчиво в окно, за которым шумит зелень...
Вообще, подлинный трагизм Чехова - в скуке. Именно скука, безделье, показанные им с новаторской для постановок реалистичность и перевернули театр. Новая постановка "Чайки" поляком Люпой видимо тоже хотела перевернуть. Хоть что-нибудь.
В итоге - основное впечатление спектакля - актеры бубнят, шумно топая бегают между рядами, и... и зрители уходят из зала.
Вообще постановщик выбрал выбрал не канонический мхатовский вариант пьесы, публикуемый во всех собраниях сочинений, а тот ранний вариант, который был поставлен только в Александринке, с шумом провалился, и сохранился лишь режиссерским экземпляром Театральной библиотеке. Да и тот изрядно подрежесировал - начиная от того, что действие начинается без звонков и при свете. заканчивая тем, что от Кости убрано вообще все более-менее человеческое. На фоне урбанистичного, а отнюдь не усадебного пейзажа (старый разбитый автобус, конструкции недостроенного здания) у каждого персонажа есть своя, внутренняя трагедия... кроме так отцентрализированного Кости. И спектакль сыпется на кусочки...
Аналогии 12-ти стульев по счету апостолов - прозрачны, кровавая подушка - убитая чайка - не является акцентом. Вообще, имхо, у Люппы то самое ружье на стене из первого акта и не могло выстрелить - спектакль не получился. Можно очень долго искать дополнительные смыслы, аналогии, свежие новинки, читать о том, что это переосмысление театра, где актеры уже не очень важны, а центральное становится вариация "сцены в сцене", но наиболее точно охарактеризовали этот спектакльв РГ:
"Чехов строил свою «Чайку» так, что без финального самоубийства обессмысливается логика пьесы, уничтожается ее экзистенциальный смысл. Представьте, что в «Отелло» Дездемону никто не душит. А в «Гамлете» принц Гамлет наследует престол. Не задушенная Дездемона, не отравленный Гамлет, не застрелившийся Треплев – случай театра, где «оригинальность ради оригинальности» разрушает и логическую, и художественную структуру авторского текста, оставляя взамен разной степени увлекательности необязательные «заметки на полях». "
Колдовское озеро - небольшая в ванна, в которой плещется голый мужик, и из которого вещает "читку" выбранная Треплевым (который вообще похож на Гарри Поттера в джинсах и очках) актриса. Видеоинсталляции, надрыв, актеры играют актеров - при этом бубня так, что не разобрать слов даже сидя почти у сцены.
Все приметы новодела - обнаженка, медийные технологии, надрыв, истерика. Топотом через весь зал и сиськами во всю сцену прикрыли, на мой взгляд - отсутствие свежих идей и неумение показать то, что вложил в спектакль - автор. Было очень обидно за театр - все-таки это была не экспериментальная сцена, а Александринка.
В общем, поздравьте меня - я первый раз в жизни настолько разочаровна спектаклем, что ушла из театра...