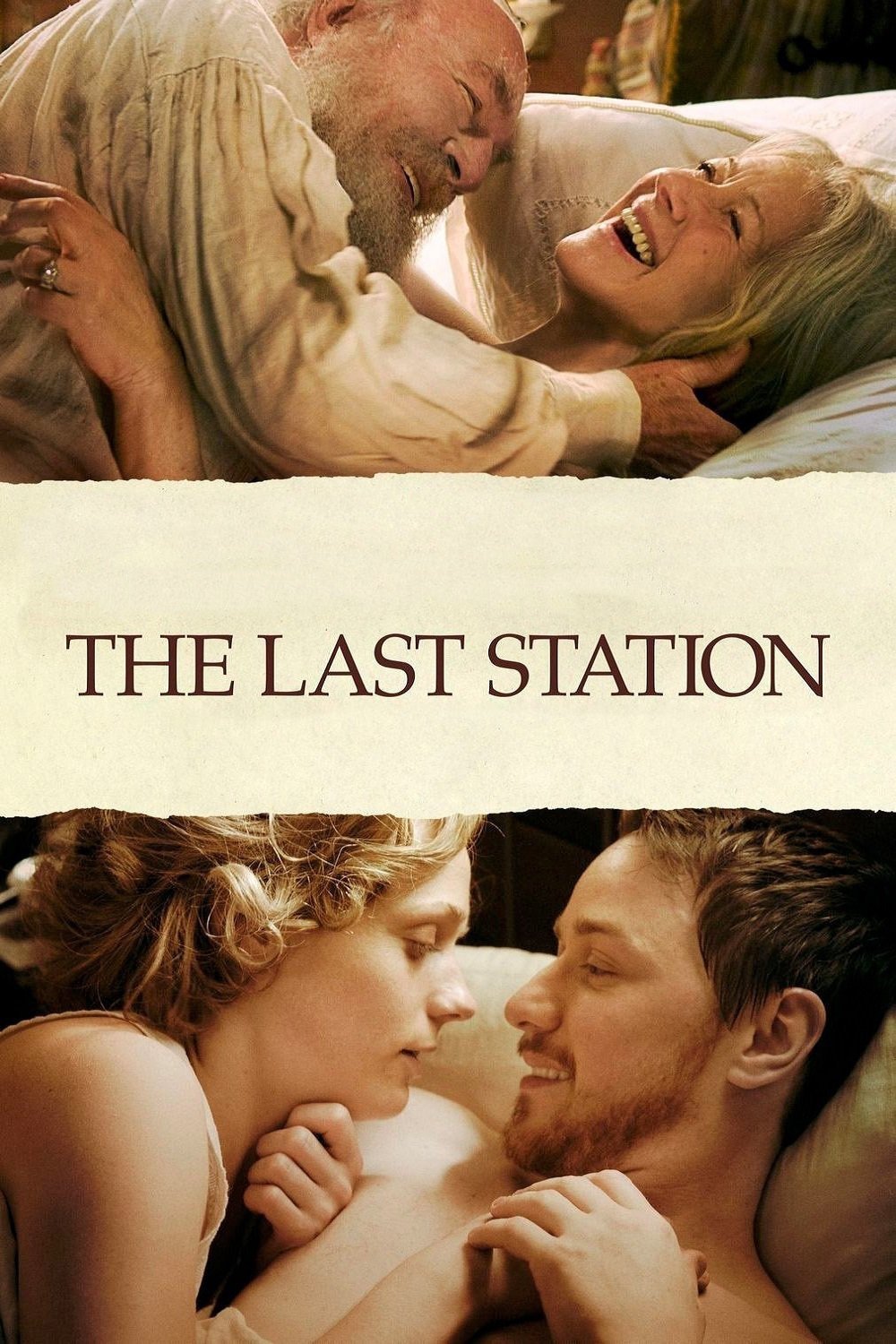
Все отзывы о фильме «Последнее воскресение»
Рецензия Афиши

1910 год, Лев Толстой (Пламмер) доживает последние дни в Ясной Поляне. У ворот круглосуточно дежурят папарацци, неподалеку функционирует то ли секта, то ли коммуна толстовцев, презирающих РПЦ и частную собственность. За спиной писателя тем временем идет отчаянная борьба вокруг его завещания: любящая, но склонная к театральным эффектам супруга Софья (Миррен) хочет оставить копирайт семье, ближайший соратник Толстого Чертков (Джаматти), по-человечески неприятный, настаивает на public domain. Во все это окунается юный идеалист (МакЭвой), который поступает к старику на место секретаря и немедленно реализует толстовскую мысль о примате любви бурным романом с прогрессивной женщиной Машей (Кондон).
Уже с первых кадров — когда сквозь затуманенное поле проглядывает церквушка, а титр ненавязчиво напоминает, что Лео Толстой написал «Войну и мир» и «Анну Каренину», — российский зритель вправе испытать некоторый скепсис. И будет неправ: несмотря на чересчур фольклорные березки и онучи, несмотря на «зе мьюжикс» и отдельные ляпы (скажем, крупные планы толстовского дневника выявляют его провидческое следование современным нормам орфографии), «Последнее воскресение» не оставляет ощущения ни клюквы, ни лубка — в отличие, кстати, от отечественных фильмов про дореволюционную Россию. Это очень основательная и, в общем, качественная работа. Упрекнуть ее можно по более тонким поводам: «Воскресение» получилось слишком гладким технически и рыхлым драматургически, слишком часто подменяет драму мелодрамой. Понятная идея вывести на первый план наблюдателя — героя МакЭвоя — оправдывает себя лишь отчасти: ни он, с его вечно распахнутыми глазами и комическим чиханием, ни его эмансипированная возлюбленная (она, как правило, колет дрова) не настолько увлекательные персонажи, чтобы за ними прятать Льва Толстого. Тем более что между ними и писателем еще высится великая Хелен Миррен, чье соотношение с экранным мужем легко проследить по оскаровским номинациям «Воскресения». Миррен лазает по карнизу в дезабилье, картинно бросается в пруд, устраивает дуэли взглядов с Джаматти, падает на вилку — словом, не оставляет партнерам ни шанса. Пламмер же, играющий что-то среднее между Гэндальфом и Солженицыным, отвоевал себе только квазиэротический эпизод, где граф изображает петуха, и исполнил его столь виртуозно, что, кажется, петух единственный в памяти и осядет.
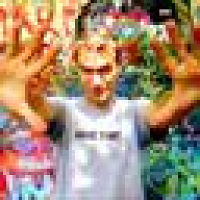
Рафинированная до медиа-объёмов и переведённая на английский язык история последних дней жизни великого русского старца, метающегося между ответственностью мужа и идейного лидера, между личными и общественными интересами. Фильм, вероятно должен был быть чем-то большим, достойным масштаба личности Толстого, но никак, увы, не может выйти за рамки семейной драмы, явно потворствуя тому, как писательские клизмы становятся достоянием общественности и занимают первые полосы газет..
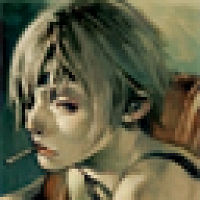
Несмотря на строгость афиши, «Последнее воскресение» (в оригинале – «Последняя станция») - действительно фильм о любви, каких мало. Причём о любви нежной, заботливой, самоотверженной и преданной, и при этом без приторности и сантиментов, что не может не тронуть хоть немного всех, кому знакомо чувство какой бы то ни было привязанности. Два романа – первое чувство молодости и союз, проверенный годами – существуют в нём параллельно, перекликаясь и дополняя друг друга. В центре событий – обаятельнейший юноша Валентин Булгаков (Макэвой), последний секретарь Льва Толстого (Пламмер), едва не плачущий от счастья при встрече с Учителем и заявляющий, что принял целебат. Однако все вокруг словно сговорились его смущать, видимо, потому, что от смущения он чихает, и, наконец, его соблазнила бойкая девушка Маша (Кондон) из Телятинской коммуны. Одновременно Валентина пытаются завербовать всяк на свою сторону жена великого писателя Софья Андреевна (Миррен) и его ближайший соратник Чертков (Джаматти), настраивающий Толстого против неё, чтобы завладеть после его смерти правами на его литературное наследие. Первая не соглашается с идеями Толстого, но любит его, второй использует его в своих корыстных целях, превращая его образ в живую икону толстовского движения, на гребне волны которого надеется вознестись. Лев Николаевич – живой человек, а отнюдь не пророк, вещающий божественными откровениями – больше не в состоянии жить и работать в атмосфере постоянных интриг, заговоров, скандалов, сотрясающих дом, раздирающих его на части, среди журналистов, живописующих каждый его шаг, и почитателей, записывающих каждое его слово. Он проповедовал любовь и свободу, а Чертков всё перевернул с ног на голову, создав «толстовский» свод правил и ограничений, запрещающий и любить, и оставаться свободными. Под давлением Черткова подписав завещание в пользу «всего народа», Толстой уезжает из дома и заболевает, вырванный из привычного быта, окружённый сонмищем «доброжелателей», желающих только его смерти, торопящих её как событие, полезное для движения. Но Валентин уже всё понял правильно и сделал свой выбор – последовав за Толстым в добровольное изгнание, он сообщит Софье Андреевне о его местонахождении, ведь перед смертью он захочет видеть только её одну. Да, мы не знаем, так ли всё это было на самом деле в биографии одного из самых противоречивых мыслителей, но концепция этой истории, на первый взгляд кажущейся бесхитростной, видится мне очень верной по отношению к личности Толстого. Режиссёру можно только сказать спасибо за такую бережную, светлую картину, не вписывающуюся во всеобщее стремление с энтузиазмом ворошить грязное бельё знаменитых людей. Так же бережно и правдоподобно, что обычно несвойственно зарубежным интерпретаторам русской действительности, передан исторический антураж и колорит эпохи, без лубочности и ярких спецэффектов, зато на фоне красивой природы и с замечательной актёрской игрой. Последнее стоит отдельного упоминания – я давно не встречала настолько интересных, убедительных образов, настолько искренних и глубоких эмоций и психологического переживания в кино, а не в театре. Погуглите биографию Булгакова – у него удивительная судьба, и обязательно посмотрите этот фильм.
12.11.2010
Комментировать рецензию

Жизнь Льва Николаевича Толстого была едва ли не интереснее и драматичнее его романов, особенно в последние годы, когда русский граф помимо литературной славы обрел статус религиозного святого и основал собственное учение о непротивлении злу насилием, повлиявшее на миллиарды человек по всему свету. Достаточно будет вспомнить, что его отлучили от церкви, а побег умирающей легенды из Ясной Поляны освещался прессой на всех континентах. Именно этот трагический этап жизни Толстого взял за основу американский режиссер Патрик Хоффман в попытке исследовать, что толкнуло человека такого масштаба в добровольное изгнание.
Конечно, не стоит ожидать, что биографическая калька сможет проявить духовные поиски гиганта мысли. Хоффмана интересуют более прозаичные вещи: отношения Льва Николаевича с его супругой, женщиной самой по себе не менее любопытной. Узел противоречий завязывается, казалось бы, неразрешимый: источник доходов огромной аристократической семьи, литературное наследие Толстого вот-вот отойдет со всеми правами многострадальному народу, то ли по личному убеждению самого писателя, то ли по науськиванию его верного товарища Черткова, этакого антрепренера образа Толстого, продвигающего его учение в массы. Софья Андреевна, испытывающая самые теплые чувства к мужу и непреодолимую неприязнь к Черткову, регулярно устраивает публичные сцены, тут же становящиеся притчей во языцех, мол, посмотрите, какая у гения склочная жена. И при все при этом, именно она, по мнению Хоффмана, заслуживает больше всего сочувствия. Родившая ему тринадцать детей, земная Софья Андреевна до последней капли крови сражается за свою семью, за деньги и в частности за любимого Левушку, доводя его до крайнего предела. Тут и там мелькают вспышки фотокамер, толпы людей идут на поклон к знаменитому старцу, в Ясную Поляну едет молодой Валентин Булгаков, чьими глазами мы и увидим последнее воскресение.
Тут сразу стоит понять и принять, что перед нами обыкновенная американская драма, которую на высокий уровень вытягивают лишь оригинальная история да эмоциональная игра Кристофера Пламмера и Хелен Миррен. В остальном Патрик Хоффман и не стремится приблизиться к реальным событиям, развернувшимся вокруг личности Толстого, и тем более к неоднозначности второстепенных персонажей. Чертков монотонно злой и коварный, Софья Андреевна — жертва обстоятельств, любовь Валентина Булгакова и Маши не более чем необходимая вторая сюжетная линия с запрограммированной эротической сценой. Это абсолютно другой взгляд на события столетней давности, имеющий право на существование и стремящийся к западной универсальности, без частностей, коими является противоречивость человеческого характера.
Со всеми этими «но» Хоффману удается добиться удивительной теплоты, и не в последнюю очередь благодаря вкраплениям юмора, пронизывающего быт Ясной Поляны. Самая критикуемая сцена — любовное кукарекание Льва Николаевича Толстого — приближает к нам гения, пускай и дорогой ценой, а хитросплетение интриг шаблоном делает понятной драму его семейной жизни. Очевидно, что требовательность отечественного зрителя к изображению своих кумиров не приемлет подобных компромиссов, и Толстой заслуживает куда более глубокого художественного анализа, и тем не менее «Последнее воскресение» само по себе ничуть от этого не теряет, оставаясь душевным, трогательным фильмом по мотивам одной необыкновенной судьбы.

Шикарный фильм, просто отдых для ушей и глаз, в которых уже рябит от спецэффектов и пресловутого 3D.
Великолепная игра актеров, в первую очередь, мэтров британского кино Пламмера и Миррен, но Джиаматти и МакЭвой также хороши.
Также стоит отметить, что "Последнее воскресение", в отличие от многих фильмов последних лет, не грешит нелогичностями и неожиданными (в худшем смысле) поворотами сюжета, возможно, потому что в основу сюжета положена жизнь реальных людей, но в то же время ближе к развязке заставляет напряженно всматриваться в экран.
Ну, и, кроме всего прочего, один из очень немногих западных фильмов, которые не воспринимаешь как развесистую клюкву о жизни в Сноуи Раша, где только мороз, водка и медведи.

Я шла на Хелен Миррен - и потому ушла довольная. И даже очень. Чуть-чуть поменьше мелодраматики в отношениях главных героев, что старых, что молодых, - и получилось бы вполне себе биографическое кино. Но это если придираться - а делать этого не хотелось... Спасибо за бережное отношение к самому классику русской литературы, если уж не вышло с его литературными детищами (ух, как вспомню "Анну Каренину" с Софи Марсо в главной роли...).
Поклонникам леди Миррен - смотреть!
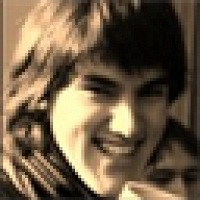
Такие фильмы как правило не выходят на широкие экраны: почти премьерный
показ был устроен в Малом зале "Художественного", где в числе немногочиленных
зрителей оказался сам Геннадий Хазанов.
Не скрою, перед началом отнёсся к картине с предвзятым недоверием: дескать,
покажут все стереотипы о нашей культуре вкупе с отвратительным дубляжом.
Ан нет - медведи в кадре не ходили, русская природа сверкала, а Льва Николаевича
блистательно озвучил актёр Алексей Петренко. Мне сложно судить о достоверности
кончины писателя: в школе учили, что он умер на вокзале подобно последнему бомжу.
Впрочем, правды мы уже не узнаем. Именно эта неопределённость вместе с чисто голливудской приукрашенностью истории не позволяет мне поставить "пятёрку".
Вышибить слезу у зрителя удалось, я сам чуть не заплакал. Кроме того, за роль Софьи Хеллен Миррен достойна очередного и вполне заслуженного "Оскара". Must watch.

«Последнее воскресение» - фильм, за который хочется сказать большое честное «спасибо», но только если забыть про настоящего Льва Толстого, настоящую Софью Андреевну и те события, что развернулись в последние дни жизни Толстого. Вообще, снимать фильм, настолько оторванный от реальности, когда эта самая реальность в деталях известна буквально по минутам, это большой риск. Риск, который усугубляется еще и тем, что для большинства зрителей «Последнего воскресения» представления обо всех настоящих героях этой драмы так и останутся глянцево-мелодраматическими, как и невероятно чистый немецкий лес вокруг Ясной поляны.
Фактических ошибок в фильме так много, что они создают настолько принципиально иную ткань реальности последних дней Толстого, что от настоящего Толстого в ней почти ничего и не остается. Хотим мы того или нет, но между героями фильма и подлинными прототипами пропасть настолько большая, что встретившись, эти люди даже и не узнали бы друг друга.
Но если забыть про историю и вспомнить, что в год 100-летия смерти величайшего писателя, в его государстве не нашлось ни желания, ни средств на «отечественную» версию событий, то по честному, надо просто идти и смотреть. Другого все равно не будет. А режиссер, актеры и вся съемочная команда создали прекрасный фильм-сказку, что уже по нашим временам совсем немало.

Очень хорошее кино! Человеческий взгляд на утопические идеи. Фильм не описывает самого Л.Н. Толстого, а объясняет непонятный и сложный факт в биографии великого писателя. Тот кто ищет к чему придраться - найдет обязательно, но мне фильм очень понравился, жаль что наши режиссеры не снимают подобного кино.

Несмотря на то, что у меня есть смутные подозрения по поводу сюжета, могу сказать, что это очень трогательная картина. Приятно смотреть на русских не с точки зрения бандитизма, водки, медведей - а со всем с другой стороны.. Тонкая проза жизни любящей Софьи Андреевны, которую блистательно сыграла Хелен Миррен, и ее великого, но не простого мужа Льва Николаевича. Я бы сказала, что в фильме его сделали сильно мягче, чем рассказывали нам в Ясной Поляне. Отдельно хочется отметить МакЭвоя - вечно молодой непорочный юноша. Образ свой держит стойко. Жаль, что наши режиссеры такие фильм про своих же великих снять не хотят...
С таким упоением смотрела фильм в оригинале) особенно было приятно, что всех называли по имени отчеству!! Полагаю, непростая задача для актеров..))

ПОЧЕМУ ЛЕВ ТОЛСТОЙ СБЕЖАЛ ИЗ ЯСНОЙ ПОЛЯНЫ
100 лет прошло со времени ухода Льва Николаевича Толстого из родного дома и его смерти.
Вчера посмотрел фильм «Последнее воскресенье» о последнем годе жизни Толстого в Ясной Поляне. Сценарий фильма написан Майклом Хоффманом (он же режиссёр фильма) по мотивам романа Джея Парини «The Last Station», основанного на
дневниках самого Толстого, членов его семьи и близких друзей.
В фильме показан самый драматичный период жизни Льва Николаевича Толстого.
Что же заставило великого писателя сбежать из своего поместья Ясная Поляна от жены и детей, закончив жизнь в доме начальника железнодорожной станции Астапово?
В прошлом году, когда я был в Париже, то с удивлением обнаружил, что ещё сохраняется интерес к любовной драме Софьи Андреевны Берс и Льва Николаевича Толстого. Об этом до сих пор пишут в журналах.
Немецкий фильм «Последнее воскресенье» о Льве Толстом я смотрел в кинотеатре «Родина» в почти пустом зале. Молодёжь ломилась на японский мультик.
Хелен Миррен в роли Софьи Андреевны показалась мне более убедительной, нежели Кристофер Пламмер в роли Льва Толстого.
Конечно, заграничные фильмы о Толстом столь же далеки от реальности, как и наши фильмы про индейцев. Я прочувствовал это, когда участвовал в съёмках фильма «Анна Каренина» с Софи Марсо и Шоном Бином в главных ролях.
Жаль, что иностранцы снимают фильмы про великих русских людей, а у нас на это денег сейчас не находится.
О трагическом уходе Льва Толстого хотел снять фильм Андрей Тарковский. А снял Сергей Герасимов, в котором сам режиссёр и сыграл главную роль.
Конец жизни Толстого это настоящая трагедия. Его единомышленник Чертков и его жена Софья Андреевна дрались из-за любви к Толстому, а фактически за его наследие.
Драма Толстого в конфликте его убеждений и реального поведения, личной любви Толстого и его вселенской любви ко всему человечеству.
Толстой хотел, но признавался, что не в силах любить всё человечество.
Он любил жену. Но и её любовь в конце жизни вынести не мог.
Наиболее достоверным источником я считаю книгу Тихона Полнера «Лев Толстой и его жена». А также книгу пианиста Александра Гольденвейзера, поскольку он был непосредственным свидетелем происходившей в Ясной Поляне драмы.
Лев Толстой познакомился со своей будущей женой Соней Берс, когда ей было семнадцать, а ему тридцать четыре года. Вместе они прожили 48 лет, родили 13 детей. Софья Андреевна была не только женой, но и верным преданным другом, помощницей во всех делах, в том числе и литературных.
Первые двадцать лет они были счастливы. Однако потом часто ссорились, в основном из-за убеждений и образа жизни, которые Толстой определил для себя.
Лев Толстой был человеком влюбчивым. Ещё до женитьбы у него случались многочисленные связи блудного свойства. Сходился он и с женской прислугой в доме, и с крестьянками из подвластных деревень, и с цыганками. Даже горничную его тётушки невинную крестьянскую девушку Глашу соблазнил. Когда девушка забеременела, хозяйка её выгнала, а родственники не захотели принять. И, наверное, Глаша бы погибла, если бы её не взяла к себе сестра Толстого. (Возможно, именно этот случай лёг в основу романа «Воскресенье»).
Толстой после этого дал себе обещание: «У себя в деревне не иметь ни одной женщины, исключая некоторых случаев, которые не буду искать, но не буду и упускать».
Но преодолеть искушение плоти он не мог. Однако после сексуальных утех всегда возникало чувство вины и горечь раскаяния.
Особенно долгой и сильной была связь Льва Николаевича с крестьянкой Аксиньей Базыкиной. Отношения их продолжались три года, хотя Аксинья была женщиной замужней. Толстой описал это в повести «Дьявол». В юности, читая повесть «Дьявол», я был поражён искренностью рассказчика, и обещал себе не повторять его ошибок.
Когда Лев Николаевич сватался к своей будущей жене Софье Берс, он ещё сохранял связь с Аксиньей, которая забеременела.
Перед женитьбой Толстой дал прочитать невесте свои дневники, в которых откровенно описывал все свои любовные увлечения, чем вызвал у неискушённой девушки шок. Она помнила об этом всю жизнь.
Восемнадцатилетняя жена Соня в интимных отношениях была неопытна и холодна, чем огорчала своего опытного тридцатичетырёхлетнего мужа. Во время брачной ночи ему даже показалось, что он обнимает не жену, а фарфоровую куклу.
Со школьной скамьи нам внушают, будто классики отечественной литературы были чуть ли не ангелами. Лев Толстой не был ангелом. Он изменял жене даже во время её беременности.
Оправдывая себя устами Стивы в романе «Анна Каренина», Лев Толстой признаётся: «Что ж делать, ты мне скажи, что делать? Жена стареется, а ты полон жизни. Ты не успеешь оглянуться, как ты уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, как бы ты ни уважал её. А тут вдруг подвернётся любовь, и ты пропал, пропал!»
В конце 1899 года Толстой писал в дневнике: «Главная причина семейных несчастий – та, что люди воспитаны в мысли, что брак даёт счастье. К браку приманивает половое влечение, принимающее вид обещания, надежды на счастье, которое поддерживает общественное мнение и литература; но брак есть не только не счастье, но всегда страдание, которым человек платится за удовлетворённое половое желание».
Непосредственный свидетель Александр Гольденвейзер писал: «С годами Толстой всё чаще и чаще высказывает свои мнения о женщинах. Мнения эти ужасны».
– Уж если нужно сравнение, то брак следует сравнивать с похоронами, а не с именинами, – говорил Лев Толстой. – Человек шёл один – ему привязали за плечи пять пудов, а он радуется. Что тут и говорить, что если я иду один, то мне свободно, а если мою ногу свяжут с ногою бабы, то она будет тащиться за мной и мешать мне.
– Зачем же ты женился? – спросила графиня.
– А не знал тогда этого.
– Ты, значит, постоянно меняешь свои убеждения.
– Сходятся два чужих между собою человека, и они на всю жизнь остаются чужими. … Конечно, кто хочет жениться, пусть женится. Может быть, ему удастся устроить свою жизнь хорошо. Но пусть только он смотрит на этот шаг, как на падение, и всю заботу приложит лишь к тому, чтобы сделать совместное существование возможно счастливым».
Лично я считаю, что никто другой не смог бы выносить Льва Николаевича столь долго, как его жена Софья Андреевна. Прожить всю жизнь с таким человеком, это настоящий подвиг!
Когда жена не могла делить с мужем супружеское ложе, Толстой увлекался либо очередной горничной, либо кухаркой, или посылал в деревню за солдаткой.
За 48 лет супружеской жизни Софья Андреевна родила тринадцать детей, пятеро из них умерли. В сорок четыре года Софья Андреевна родила своего последнего ребёнка, который через шесть лет умер.
Вынести она этого не смогла. Ей казалось, что муж разлюбил её. И она влюбилась. Объектом её страсти стал друг семьи композитор Александр Сергеевич Танеев. Ей было 52 года!
Все догадывались о влюблённости Софьи Андреевны, кроме самого Танеева. Любовниками они так и не стали.
В дневнике Софья Андреевна писала: «Знаю я это именно болезненное чувство, когда от любви не освещается, а меркнет божий мир, когда это дурно, нельзя – а изменить нет сил».
Перед смертью она сказала дочери Татьяне: «Любила я одного твоего отца».
Софья Андреевна боялась остаться в памяти потомков не достойной своего гениального мужа. И потому старалась вычёркивать из дневников Толстого все нелестные упоминания о ней.
Зная, что жена Софья Андреевна читает его дневники, Толстой завёл «тайный» дневник, а потом «дневник для одного себя», который хранил в банковском сейфе.
В конце жизни Толстой пережил крах. Рухнули его представления о семейном счастье. Лев Толстой не смог изменить жизнь своей семьи сообразно со своими взглядами.
«Крейцерову сонату», «Семейное счастье» и «Анну Каренину» Лев Николаевич писал на основе опыта своей семейной жизни.
В соответствии со своим учением, Толстой старался избавиться от привязанности к близким, пытался быть ровным доброжелательным ко всем.
Софья Андреевна, напротив, сохраняла тёплое отношение к мужу, но учение Толстого ненавидела всеми силами души.
– Ты дождёшься, что тебя на верёвке поведут в тюрьму! – пугала Софья Андреевна.
– Этого мне только и надо, – невозмутимо отвечал Лев Николаевич.
Последние пятнадцать лет своей жизни Толстой думал о том, чтобы стать странником. Но он не решался оставить семью, ценность которой проповедовал в своей жизни и в творчестве.
Страстное желание бросить всё и стать странником Толстой выразил в последнем, не опубликованном при жизни рассказе, «Отец Сергий».
Под влиянием единомышленников Лев Толстой отказался от авторских прав на произведения, созданные им после 1891 года. В 1895 году Толстой сформулировал в дневнике свою волю на случай смерти. Он советовал наследникам отказаться от авторского права на его сочинения. "Сделаете это, - писал Толстой, - хорошо. Хорошо это будет и для вас; не сделаете - это ваше дело. Значит вы не готовы это сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, было самым тяжёлым для меня делом жизни".
Все свои права на имущество Толстой передал жене. Но ей этого было мало. Софья Андреевна хотела стать наследницей всего созданного её великим мужем. А это были большие деньги по тем временам. За монопольное право издания всех сочинений Толстого некоторые фирмы предлагали миллион золотых рублей!
В дневнике 10 октября 1902 года Софья Андреевна писала: "Отдать сочинения Льва Николаевича в общую собственность я считаю и дурным и бессмысленным. Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинения в общественное достояние, - мы наградили бы богатые фирмы издательские... Я сказала Льву Николаевичу, что если он умрёт раньше меня, я не исполню его желания и не откажусь от прав на его сочинения".
Именно из-за этого и разгорелся семейный конфликт. Душевной близости и взаимопонимания между супругами уже не было. Интересы и ценности семьи были для Софьи Андреевны на первом месте. Она заботилась о материальном обеспечении своих детей.
А Толстой мечтал всё раздать и стать странником.
Непрекращающиеся конфликты угнетали Толстого и лишали психического равновесия его жену.
«В июне 1910 года двое приглашённых в Ясную врачей – психиатр профессор Россолимо и хороший врач Никитин, знавший Софью Андреевну давно, после двухдневных исследований и наблюдений, установили диагноз «дегенеративной двойной конституции: паранойяльной и истерической, с преобладанием первой».
«Начался ад. Несчастная женщина потеряла над собой всякую власть. Она подслушивала, подглядывала, старалась не выпускать мужа ни на минуту из виду, рылась в его бумагах, разыскивая завещание или записи о себе… Она каталась в истериках, стреляла, бегала с банкой опиума, угрожая каждую минуту покончить с собою, если тот или иной каприз её не будет исполнен немедленно…»
«Толстой думал о том, чтобы уйти из этого «дома сумасшедших», заражённых ненавистью и борьбою. Ему стало неудержимо хотеться умереть в спокойной обстановке, вдали от людей, «разменявших его на рубли».
В третьем часу ночи с 27 на 28 октября 1910 года Толстой проснулся, услышав как Софья Андреевна роется в его бумагах, видимо, разыскивая текст тайного завещания, в котором писатель отказывался от авторских прав на свои произведения.
Чаша терпения переполнилась. Толстой понял, что «для него настал момент спасать не себя, Льва Николаевича, а то человеческое достоинство и искру Божию, которые были в конец унижены его положением в Ясной Поляне».
Восьмидесятидвухлетний Лев Николаевич был вынужден ночью тайно бежать из собственного дома. Помогали ему в этом его дочь Александра и врач Маковицкий.
Софья Андреевна давно уже обещала мужу покончить с собой, если он уйдёт. Когда она узнала о бегстве Толстого, графиня не переставая плакала, била себя в грудь то тяжёлым пресс-папье, то молотком, колола себя ножами, ножницами, хотела выброситься в окно, бросалась в пруд.
Для Софьи Андреевны уход мужа это был позор. Своим уходом он растоптал 48 лет их совместной жизни, которые была наполнены её самопожертвованием ради любимого.
Толстой хотел уехать на Кавказ, но простудился и вынужден был сойти на станции Астапово.
Умирающий Лев Толстой лежал в квартире начальника станции и попросил не пускать к нему жену. В бреду ему чудилось, что жена его преследует и хочет забрать домой, куда Толстому ужасно не хотелось возвращаться.
Умер Лев Толстой 7 ноября 1910 года.
29 ноября Софья Андреевна записала в дневнике: «Невыносимая тоска, угрызения совести, слабость, жалость до страданий к покойному мужу… Жить не могу».
Она хотела покончить с собой.
В конце жизни Софья Андреевна призналась дочери: «Да, сорок восемь лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он за человек...»
Она была идеальная «языческая жена», как писал Толстой, но «христианским другом» так и не стала. В одном из последних писем Толстой написал: «Ты дала мне и миру то, что могла дать, дала много материнской любви и самоотвержения, и нельзя не ценить тебя за это…. Благодарю и с любовью вспоминаю и буду вспоминать за то, что ты дала мне».
Я прочитал все романы Льва Толстого не один раз, многие повести и публицистические статьи.
Всю религию Толстого можно свести к немногим положениям:
– твори волю Бога, пославшего тебя на землю;
– слиться с Ним предстоит тебе после плотской смерти;
– воля Бога состоит в том, чтобы люди любили друг друга и вследствие этого поступали с другими так, как они хотят, чтобы поступали с ними.
Его теория о непротивлении злу насилием стала основой деятельности Махатма Ганди. И эта теория реально изменила мир!
В последние годы жизни Толстой признавал, что ещё только ищет истину, что ему предстоит ещё много работы над внутренней переменой своей жизни. Всякая догма, всякие окончательные теории становились для него ненавистными. Он решительно протестовал против «толстовства» и даже говорил иногда о своих последователях: «Это – «толстовец», то есть человек самого чуждого мне миросозерцания».
Одни считают, что главный итог жизни Льва Толстого это его литературное творчество. Другие (к ним принадлежу и я) убеждены, что главное в жизни Льва Толстого это его духовное возрастание, познание себя и самосовершенствование.
Сам Лев Николаевич считал свои литературные произведения «побочным продуктом» своего духовного развития. Он не просто сочинял романы и писал статьи, он старался жить в соответствии со своими убеждениями.
И этим Толстой мне ближе, чем Достоевский.
Многие видели упадок нашей церкви в конце 19 века. Но только Лев Толстой смог сказать об этом честно, выступил против лицемерия некоторых церковников, превративших сообщество единомышленников в контору на службе государства.
Толстой считал себя последователем Христа, однако не принимал церковного христианства. Толстой не полагал Христа Богочеловеком, а видел в Нём лишь одного из величайших пророков человечества. В 1879-85 годах Толстой перевёл заново с древнегреческого языка четыре Евангелия и свёл их в один текст, оставив, по его мнению, самое необходимое.
Лев Толстой это наш Лютер!
Для меня Толстой это прежде всего мыслитель. Да, его превратили в икону, в классика литературы. Но по духу это был настоящий революционер!
Возможно, столетие со дня смерти Толстого официально не празднуют потому, что не хотят вспоминать, что Лев Толстой был противником частной собственности и выступал против русской православной церкви.
Но революция Толстого актуальна и сегодня!
Помню, как в юности в библиотеке прочитал «Исповедь» Толстого. Тогда и решил построить свою жизнь на основе опыта жизни Льва Николаевича.
«Ну хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина, Шекспира, Мольера, всех писателей в мире, – ну и что ж!». И я ничего не мог ответить…»
Я направился по пути, которым шёл Толстой. Когда посетил Оптину пустынь, в хибарке, где ночевал, я нашёл книгу «Лев Толстой «Божественное и человеческое» из дневниковых записей последних лет».
«Есть один несомненный признак, разделяющий поступки людей на добрые и злые: увеличивает поступок любовь и единение людей – он хороший; производит вражду и разъединение – он дурной».
Толстой всю жизнь стремился к истине, искал идеал. Он поступил на философский факультет – перевёлся на юридический – бросил университет – решил стать образцовым помещиком – поступил на военную службу – пытался создать идеальную семью – стал литератором – развенчивал старую религию, чтобы создать новую – всю жизнь искал «зелёную палочку», способную осчастливить людей – и умер со словами «Искать, всё время искать...»
Это был искатель Истины, хотя и шёл методом проб и ошибок.
По сути своей Лев Толстой был странником – человеком на пути к Богу!
И потому, следуя по пути Толстого, я назвал свой роман-быль «Странник».
Данте Алигьери в книге «Новая жизнь» пишет: «странники» могут пониматься в двояком смысле – в широком и в узком: в широком – поскольку странником является тот, кто пребывает вдали от отчизны своей; в узком же смысле странником почитается лишь тот, кто идёт к дому святого Иакова или же возвращается оттуда».
Толстой фактически отказался от присуждения ему Нобелевской премии по литературе за 1906 год.
Ныне учреждена литературная премия «Ясная поляна», которая вручается потомками Льва Николаевича Толстого в день его рождения 9 сентября.
В 2008 году в день рождения Льва Толстого я посетил Ясную Поляну и подарил музею свой роман-быль «Странник»(мистерия), в котором описал общение с Львом Толстым.
Меня поразила скромность убранства дома. Я бродил по тропинкам, где когда-то ходил Лев Николаевич, и мне казалось, словно я беседую с ним.
— «Такая мания – это писательство. За деньги писать. Это как есть, когда не хочется, или как проституция, когда не хочется предаваться разврату. … Я чувствую, что совершаю грех большой, поощряя писательство, которое самое пустое занятие».
— Мне кажется, поступок писателя важнее, чем созданные им произведения.
— «Я очень понимаю, что суждение о том, что писателя нужно судить по его писаниям, а не по делам, не нравится вам. Мне такое суждение тоже противно».
— Как же жить?
— «Пусть пока вокруг тебя люди злобные и бесчувственные, — найди в себе силы светить светом добра и истины во тьме жизни, и светом своим озари путь и другим. Никогда не теряй надежды, если даже все оставят тебя и изгонят тебя силой, и ты останешься совсем один, пади на землю, омочи её слезами, и даст плод от слёз твоих земля. Может быть, тебе не дано будет узреть уже плоды эти — не умрёт свет твой, хотя бы ты уже умер».
— Но ради чего жить?
— «Праведник отходит, а свет его останется. Ты же для целого работаешь, для грядущего делаешь. Награды же никогда не ищи, ибо и без того уже велика тебе награда на сей земле. Не бойся ни знатных, ни сильных...»
— А что вы хотели, но не смогли или не успели написать?
— «Хотел написать всё, что думается человеком на протяжении нескольких часов. Всё!»
— Но зачем?
— «Только опомнитесь на часок, и вам ясно будет, что важное, одно важное в жизни – не то, что вне, а только одно то, что в нас, что нам нужно. Только поймите то, что вам ничего, ничего не нужно, кроме одного: спасти свою душу, что только этим мы спасём мир. Аминь».
(из моего романа-быль «Странник»(мистерия) на сайте Новая Русская Литература
ЛЮБОВЬ ТВОРИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ!
© Николай Кофырин – Новая Русская Литература – http://www.nikolaykofyrin.ru

Бенефис великолепной Хелен Миррен: жене Льва Толстого в ее исполнении хочется не только отдать все права на произведения мужа, но и признать соавторство. На фоне такой женщины особенно жалко выглядят потуги толстовцев, примазывающихся к славе гения поклонников, заставить писателя передать права народу. Жаль, что Оскара Хелен дали не за это, а за Королеву. Отдельный респект продюсеру за почти полное отсутсвие клюквы а-ля-рюс. Кроме цигейковых (?) шапок в стиле Живаго и придраться особо не к чему.

Редкий иностранный фильм про Россию и русских, после которого не чувствуешь себя идиотом с балалайкой и медведем на привязи.
Фильм о любви. Ею пронизано все, все линии между персонажами. О любви сильной, искренней - но порой разрушительной, несправедливой, эгоистичной. Удивительно, но наблюдая за тем, как ссорятся, мучаются, враждуют и мирятся персонажи, ты понимаешь, что всеми ими - и Софьей Андреевной, и Чертковым, и Александрой, и Толстым, и Машей - движет любовь, у каждого своя. Жить с гением, любить его, будучи женой, дочерью, другом, последователем, учеником - непросто, и это само по себе испытание. Меня очень порадовало, что несмотря на проникновение в очень интимную сферу чувств, личных переживаний, семейных потрясений, в конечном итоге старости и смерти - не потеряно уважительное отношение к самому Толстому, к "глыбе", гению, и к его семье.
Очень старательное, внимательное, восхищенное отношение создателей картины к теме и материалу проявляется во всем, с первой до последней минуты: тщательно, насколько это может иностранец, проработаны детали интерьеров, костюмов, пейзажей (хотя крестьяне чересчур аккуратные для матушки-России - видно, что фильм снимался в Германии), тонкости общения между персонажами.
При всей "иностранности" картины в ней присутствует главная черта русской драматургии и кинематографа - надрыв! Не наигранный, а именно очень настоящий. Как это ни парадоксально, но это придает картине аутентичности и помогает "поверить" ее создателям.
Актеры все великолепны. Хелен Миррен - просто неподражаема. Удивила замечательная игра Кристофера Пламмера. А прекрасный дубляж Николая Петренко сделал образ абсолютно цельным.
Замечательно трогательная и очень чувственная сцена любви Маши и Валентина: настолько правдоподобна, что, мне кажется, все мужчины в зале переживали за героя, потому что каждый в этот момент узнал себя.
Я ожидала меньшего от этого фильма, но в итоге была им совершенно очарована. Браво!
Очень трогательный фильм, основанный на реальных событиях. Фильм о последнем годе жизни Льва Николаевича Толстого. Фильм о вечных ценностях: о любви, уважении, верности, красоте, семье. Фильм о взаимоотношениях в браке, о взаимопнимании, об умении прощать вне зависимости от внешних обстоятельств. Только настоящая семья, созданная на основе любви и уважения, может просуществовать долгие годы, только эти отношения могут стать образцом для подражания и верой в то самое, настоящее, что существует независимо от времени, вероисповедания, религиозно-нравственных течений и убеждений. И кто, как не великий русский писатель показывает нам это своим жизненным примером. Ибо "любить - это великое благо, а быть любимым - это счастье" - так говорят герои фильма, и с ними нельзя не согласиться.

Вывески «выход» и «вход» на станции Астапово до реформы орфографии 1918 года должны быть с твердым знаком на конце. Больше говорить об этом фильме просто нечего.

Фильм о последних моментах жизни великого писателя, о любви, которую совсем немногие способны пронести через всю жизнь. Перехлестывающие через край эмоции Софьи Андреевны (Хелен Миррен) вызывают не меньший трепет у зрителя. Понравилось то, как показали Россию - наконец без водки, медведей, лаптей и Ленина в красной рубахе. Чистая, аккуратная картина. В эпоху засилия 3D, множества спецэффектов и сюжетов про концы света и super-mind крайне приятно смотреть фильмы, подобные The Last Station. Может фильм и не ге�ниальный, но поставить оценку просто "хорошо" - не в состоянии. Под впечатлением.

Фильм экранизирует и драматизирует последний год жизни Льва Толстого и его сложные семейные отношения на фоне быстро развивающегося движения "Толстовста". Отличная игра актеров, особенно хочется выделить Хелен Мирен и Джеймса МакЭвоя. Приятно смотреть на те нюансы, которые придают это герою настоящую глубину. У всех актеров здорово получается играть русских, но если смотреть в оригинале, конечно уродуют имена отчества.

Начну с того что и тут не обошлось без странностей перевода названия фильма (Последняя станция и Последнее воскресение...). Anyway, к сожалению, я перестал смотреть на 20-й минуте, я не мог дальше лицезреть фильм о Толстом, где всё дышит чем угодно кроме русского духа, вида, слов, мыслей, улыбок, даже походок... Это невозможно смотреть. И чем только думал Кончаловский? Роли сыграны прекрасно, но.. современными европейцами (судя по произношению, в основном англичанами) и выдает это не только их английский, но и поведение, реакция на что-то, возгласы, выражения лиц, глаза.. Не спорю, эпоха актеров с большой буквы (Леонов, Герд, Евстигнеев и т.д.) давно прошла и в России сейчас почти никого нет, и снимать не с кем, но о Толстом, об аристократах, может не нужно тогда было за это вообще браться? Я не обсуждаю здесь отличия русских от иностранцев и наоборот (это совершенно другая тема), но, несмотря на то что нам показаны аристократы начала 20 века, всё равно видно что это сыграно людьми совершенно другого уровня, до которого сегодняшней российской черни еще, ох как, далеко ("спасибо" 1917), а с интеллигенцией начала 20-го века довольно сложно сравнить, или, скажем, "переключиться", настолько разителен контраст западного человека (пускай сыгранного) и русского вообще. Смотреть я дальше не смог, и очень жаль, т.к. Толстой и русская аристократия (дореволюционная) мне очень интересны. Вполне возможно этот фильм вообще был создан не для России, но думаю что Кончаловский, когда снимает, всё-таки ориентируется на своих (его) авторитетов, и полагаю (чуть-чуть) что это все (почти) русские (российские) люди.

Давно ждала этот фильм.
Оказалось, не так-то просто в нашей стране сходить на ХОРОШЕЕ КИНО. Прежде чем попасть, мы обыскали все близлежащие кинотеатры и выяснили, что "Последнее воскресение" идет в 14 часов один единственный раз, и то в Московской области...
Войдя в зал, в который раз удивились, что наши люди предпочитают штампованное,низкопробное "fiction" настоящей фильме с хорошими актерами. В кинозале помимо нас присутствовало три с половиной пенсионера и еще одна забежавшая в последний момент (видимо,случайно) девушка. И это в воскресенье...
Яркий,эмоциональный,пронзительный фильм.Конечно, о ней,о любви. Непростой характер Софьи Андреевны Толстой, блестяще представленный Хелен Миррен, рассказывает о любви жены к мужу - всепоглощающей, даже эгоистичной, не желающей делить его со всем миром, но готовой посвятить всю жизнь его гению.
Кристофер Пламмер не менее удачно раскрывает образ искреннего, пылкого юноши, преданного личности и идеологии Толстого, не менее искренне влюбляющегося в простую русскую девушку Машу.
Сам же великий писатель раскрывается зрителю совсем с другой стороны - все та же мощь, задумчивость и некая суровость в чертах, что и на портрете в классе литературы (впрочем, может, это кустистые брови и борода делают свое дело?..), но при этом совсем не создает впечатление неприступности и старческого занудства.Напротив - только лишь мудрости, доброты и всеобъемлющей любви к миру... С таким Толстым хочется вот так побродить в ленивый полдень по березовой роще и поговорить о суетности мира...А еще хочется перечитать "Войну и мир", например...По-настоящему, не из-под палки. Все-таки великий был человек!...
Снято отменно, не иначе как наши руку приложили:) Очень советую посмотреть!

Это Последнее воскресение - фильм о пронзительной и божественной любви, испытать которую, к несчастью, дано не многим. О любви, которая терпит испытания из-за денег или из-за чужих философских идей, но при этом не угасает и воскресает всегда с новой силой. Совершенно меня не удивил тот факт, что фильм был снят не в России - потому как люди любят друг друга по всему миру - и потому живут еще.
"Ты вырываешь мою душу по кусочкам" - плачет исполнительница главной роли Софьи Андреевны Хеллен Миррен, прочтя дневник мужа: так и этот фильм вырывает душу по кусочкам, когда смотришь на взаимоотношения двух стариков, которые любили друг друга всю жизнь и продолжают любить и, все же, мучают друг друга, и не могут в этом остановиться.
Сюжетно фильм построен по типу Гамлета Шекспира - В большой пьесе про Льва Николаевича и Софью Андреевну и их черного рыцаря Черткова, вплетена еще одна маленькая - про Валентина Булгакова и его возлюбленную - Марию Филипповну. Драматически, Булгаков является сам "Чертковым" во взаимоотношениях с Машей, так как с трудом и к концу фильма заставляет себя понять, что для него она - главное в жизни, и никакой Лев Николаевич не может ограничить его в этом.
Ну, отдельно надо сказать про блистательную игру Хелен Миррен - мне кажется, она дала бы фору самой Софье Андреевне! В свои годы она - безумно красивая женщина - игра ее безупречна и эмоциональна, при этом, даже в неглиже, она умудряется выглядеть аристократично - одним словом - графиня.
В целом, фильм очень эмоциональный - как и мои слова о нем. Так что прошу простить за некую бессвязность...

Это было маловероятно, но произошло: мне "Последнее воскресение" (или, что гораздо больше подходит интонации фильма, "The Last Station") очень понравилось.
Все получились очень живыми, иностранцы умудрились не малевать чертей и не создавать икон (одного из действующих лиц даже мягко упрекают в том, что он хочет сделать из Толстого икону) - и Чертков не дьявол, и Софья Андреевна не лицемерная эгоистка, и Лев Николаевич без нимба весь фильм. И вообще, больше всего авторы картины переживали, кажется, за молодого секретаря Толстого, Валентина Булгакова.
И все это в современном морализаторском искусстве так нечасто бывает, что в совокупности с довольно высокой точностью изображаемых характеров и событий сделало фильм очень и очень хорошим. Да, они все говорят по-английски, а Пол Джаматти странным образом напоминает Никиту Михалкова - но фильм получился.
Пожалуй, рекомендую.

при всем глубочайшем уважении к Л.Н. Толстому, не смогла досидеть до конца сеанса. не знаю уж какова была задумка режиссера, но когда я иду смотреть фильм о великом русском писателе мне совсем не интересно смотреть на секс стриженой крестьянки-учительницы и секретаря Булгакова.
ужасная игра актеров, размазано все - и главное слишком по-голливудски, что особенно бесит во всем этом.

Очень теплое кино. Автор и съемочная команда отнеслись с большой любовью к созданию и главному герою. Из последнего просмотренного - одно из лучших. Плакала...

Очень достойный фильм. Впервые за долгое время шла в кино и не знала чего ожидать от просмотра. В голове было только:Толстой, хорошие актеры,Кончаловский.
После просмотра хочется стоя аплодировать Хелен Миррен!!
Миррен показала нам настоящую русскую женщину! Женщину, которая любит до безумия, которая и коня на скаку, и в горящую избу, и за любимым в Сибирь,которая защищает свой дом. Великолепная игра. Ее боль ощущаешь каждой клеточкой в каждую секунду. Сколько любви в ее глазах,когда она произносит "Левушка", сколько материнской заботы,когда она беседует с Валентином о его любви к Маше. Сцена последних секунд жизни писателя заставила расплакаться.
Любовь,страдание,любовь,боль и снова любовь. Любовь здесь представлена разная: любовь мужа и жены, пронесенная сквозь годы, молодая,первая любовь, фанатичная любовь к идее, любовь отца к дочери. Собственно, главной идеей воззрений Толстого была "любовь",как он сам нам об этом и говорит с экрана.
Когда за рубежом снимают фильм о русских,всегда есть опасение валенок, ушанки и водки. Этого не случилось.Ура! Актеры молодцы все,МакЭвой все таки хорош, очень хорош! Пламмера хочется обнять! В операторской работе чувствуется душа.

Честно говоря, после просмотра трейлера я была настроена крайне скептически( опять американцы сняли ужасное кино про "нас"), и не собиралась смотреть этот фильм.
Но все же посмотрела и не пожалела, а даже наоборот!
Конечно, фильм отливает голливудским глянцем, и из уст героев периодически звучат некие штампованные мелодраматические фразы. Но при этом рассказана прекрасная история великой любви. Любви многогранной, способной как на создание великого чуда, так и на саморазрушение.
Да, фильм в первую очередь о любви, а не о Толстом. Но после его просмотра, лично у меня возникло желание перечитать произведения Льва Николаевича, и поподробнее ознакомиться с его биографией.
И, конечно, еще один существенный плюс - потрясающая актерская работа Хелен Миррен!!! Хотя бы ради нее стоит посмотреть "Последнее воскресение"!