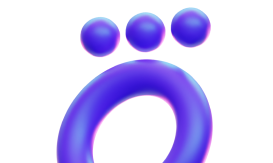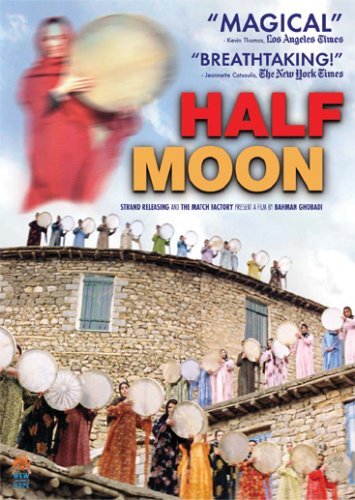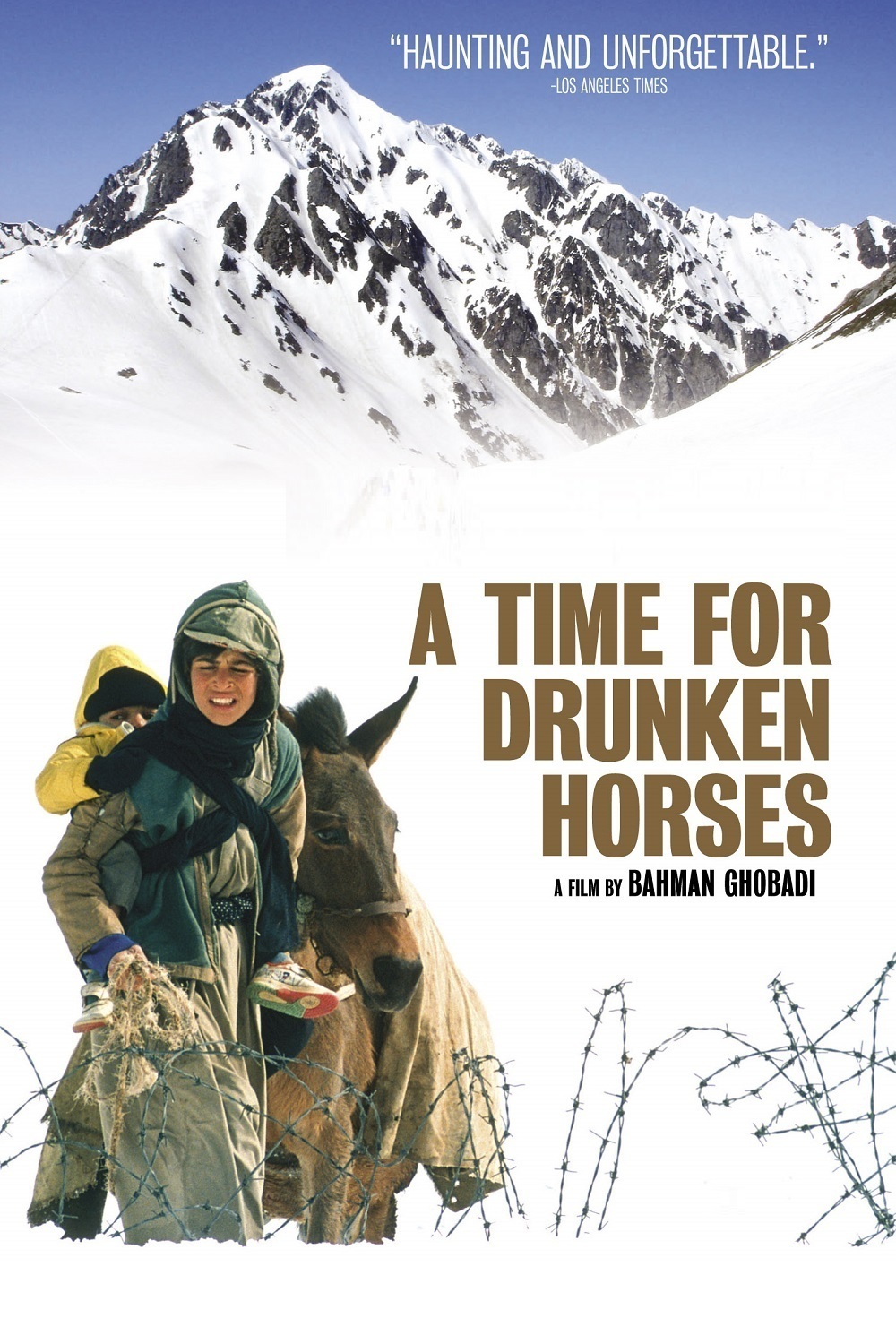Фильм И черепахи умеют летать
Lakposhtha parvaz mikonand, Иран, Франция, Ирак, 2004
| Драма, Военный |
| Бахман Гобади |
| 10 сентября 2004 |
| 1 час 38 минут |
Другие фильмы Бахмана Гобади
Участники
Читайте также
Рекомендации для вас
Популярно сейчас
Как вам фильм?
Отзывы

Самое красивое иранское кино, которое я когда-либо видел, из серии «война глазами детей» (см. «Запрещенные игры», «Иди и смотри», «Могилу для светлячков»). Серию, которую я всякий раз «ошибочно» для себя называл «дети глазами войны», пока не понял, что такое название иной раз еще точнее. Впрочем, «Черепахи» - это и война глазами детей, и дети глазами войны. При этом войны здесь нет. Она на периферии. Она была до происходящего в фильме, она в прошлом, и она, возможно, будет в будущем. Она во флэшбеках 13-летней девочки, в которых иракские солдаты сжигают курдскую деревню, расстреливают ее родителей, насилуют ее саму. Флэшбеках страшных, но все-таки флэшбеках. В самой ленте мы видим детскую игровую реальность курдского детского лагеря беженцев, которую представляет мальчик в очках, запоминающий американские словечки в страстном ожидании прихода американских солдат. Он – за деньги, разумеется – помогает жителям деревень ставить спутниковые антены, так как старцы, все поголовно, хотят знать, будет война или нет. Он переводит (точнее сказать – выдумывает на ходу) американские новости, где Буш у него почему-то говорит про погоду, мол, «будет дождь», и старцы пытаются расшифровать это видимо тайное послание. Он берет на рынке в аренду два автомата для деревни и покупает боеприпасы. Он возглавляет группу детей-беженцев, которые разминируют окрестности и в то же время продают собранные мины на сторону – чтобы как-то прожить на эти гроши. Да, дети у Гхобади – не профессиональные актеры, а настоящие, всамделишние курдские дети войны, кто без рук, кто хромает. Но они веселы, они счастливы, они играют. Это не детский пир во время чумы, это детские игры во время чужих взрослых похорон, и им не до них, не до боли, не до горя, для них война это чудесные вертолеты, авантюризм в разминировании мин одними зубами. Это картинка CNN. И потрясающий дом-броневик, в котором живет наш герой, и сто к одному, в таком доме хотел бы жить каждый мальчишка в детстве, не правда ли? И я смотрел этот фильм, и видел его «одним из серии», очередным антивоенным криком души, к тому же «дважды экспло»: тут тебе и дети, и дети-инвалиды, и изнасилованная девочка. Но по-настоящему я его увидел только неделю спустя после просмотра.
Бывают такие произведения – подобные выращенным и срезанным цветам, положенным к твоим ногам, ты перебираешь их, восхищаешься, но ничего к ним уже добавить не можешь. Они, как ветер, влетают в твою душу, всколыхнут что-то, оставив приятное послевкусие, но не задержавшись – улетают прочь. Это иранское кино - другое. Как змея, оно вползает в тебя незаметно, куда-то в предсердие, свивает там гнездо и засыпает, и во время и некоторое время спустя после просмотра ты ошибочно видишь это кино – ну, как цельное кино, высказывание, которое ты как будто бы понял. Ты видишь фантастической красоты пейзажи, сказочную утреннюю и вечернюю зарю, удивительной красоты девочку. Ты думаешь о том, каким прекрасным, до боли в глазах, может быть мир - природа ли это, военно-индустриальные ли пейзажи - разительно контрастирующий с происходящим в нем. Равнодушная красота, от которой перехватывает дыхание. Золотые рыбки под пленкой студеного горного озера. Настоящий магический реализм - жизнь детей, погруженных в войну, но детьми быть не перестающих. Под невидимым волшебным куполом эти беззащитные создания - кажется тебе - под защитой всех на свете богов. Ты думаешь, что невинность неподвластна чудовищному опыту, что она всякий раз ускользает ужом от грубой реальности взрывающихся мин, оторванных рук и ног и даже, чего уж там, животного насилия. Это ведь кино сообщает нам, что можно продолжать жить и радоваться жизни, играть в чудесных сказочных садах, даже если эти сады разбиты на верхних этажах вавилонской башни, которая, накренившись, вот-вот и погребет под собой и детей, вместе с отчаянно и безнадежно защищаемыми их богами. Разве нет?
Но на самом деле кино все это время продолжает расти в тебе. И в какой-то момент ветви этого поначалу крохотного растения начинают биться в твое сердце, змея кусает его, сводя с ума. В моем случае меня долгое время не отпускали несколько сцен. Детские башмачки, одиноко лежашие на скале, с которой прыгнула 13-летняя девочка. Сама мрачная молчаливая девочка, маленькая копия Кроткой Достоевского, которая дичится других детей и уговаривает старшего брата уйти из лагеря. Эта девочка-мать ненавидит своего ребенка, слепого мальчика (в лагере полагают, он ее младший брат). Слепой мальчик, бродящий посреди индустриального пейзажа: огромных галерей из использованных бомб, болванок, сложенных аккуратными рядами и похожих на стены лабиринта. И пустой взгляд мальчиков в самом конце. Я не понимал, зачем режиссеру понадобились именно эти герои? Почему девочка все время хотела уйти и ненавидела своего ребенка? Откуда в глазах девочки-матери, обращенных к сыну, столько ненависти и отвращения? Почему лента, подобная одновременно «Запрещенным играм» Клемана, японской «Могиле для светлячков» и «Андеграунду» Кустурицы – вся светится изнутри, полна пресловутой "радости жизни", где дети – натуральные курдские дети-сироты – воспринимают войну как игровую реальность, где герой-мальчик в очках соединяет в себе Тома Сойера и Гека Финна, и предводительствует немаленьким детским лагерем беженцев, как Фигаро, оказываясь здесь и там, и, наконец, влюбляясь на свою голову в девочку. Но при этом своим финалом лента не то чтобы обессмысливает идею лабильной детской психики, прекраснодушные идеи «надо как-то жить», «и в тюрьме можно большую жизнь найти», а скорее сжигает их все одним ударом молнии. Зачем? Зачем тогда все это было?
Понимание, что у мальчика и девочки – два разных видения войны, приходит далеко не сразу. Хотя очевидно, что они слишком разные, разные до чуждости друг другу. Для девочки война не игра. Для нее война не в прошлом, и не во флэшбеках, и, боже упаси, не в будущем. Она в настоящем, здесь и сейчас. «Праздник», который всегда с тобой. Война пролилась в ее душу расплавленным свинцом, и теперь ее, застывшую там некрасивой смрадной грудой металла, трудно, невозможно выдернуть из груди, не убив душу. Почему она ненавидит своего ребенка? Потому что этот ни в чем не повинный слепой мальчик – не просто дитя насилия (а в исламском мире наша обесчещенная не по своей воли девочка – сама нечистое дитя). Он – Дитя Войны. Он – для нее – Война и есть. И когда мальчик бродит по лабиринту из авиабомб и ищет своего отца, и бормочет «папа, папа» - это не пошлая метафора, сцена вырастает в метафору только с пониманием тобой действий девочки, но и в конце концов перерастает ее: и снова ты видишь эту сцену, где заблудившийся мальчик как слепой Эдип-котенок тычется в пустые болванки бомб и мяучит «папа», и снова она уже ничего не означает, она пуста как бомба, но при этом обладает удивительной разрушительной силой – эта мощь чистой красоты, чистого образа, который ничего не значит и значит сразу все на свете. Символ, из которого фильм вынимает сердцевину, символ, остающийся простой болванкой. Но эта болванка бьет по тебе так, как редко какой другой символ в известных киношедеврах.
Итак, мальчик – война, которую девочка вынуждена носить с собой, да еще кормить ее, лелеять, для того только, чтобы она, эта война, постоянно смотрела на нее своими слепыми глазами. Очевидно, что от этого прошлого, от войны надо как-то избавиться. Девочка хочет уйти, убежать, спрятаться, чтобы вот эта боль внутри, война, чтобы она прекратилась. Но невозможно избавиться от «праздника», который всегда с тобой, у тебя, под твоим же сердцем. Может, уйдем из лагеря? - просит девочка своего брата. Брат возмущается. У брата нет обоих рук, но он не похож на отчаявшийся обрубок человека. Именно он кормит сына своей сестры, убеждает ее, что он «все-таки ее сын», что она не может от него отказаться. Мудрый парень? Да, легко нам соглашаться с ним, и в момент первого видения фильма я был на его стороне. Возможно, мудрый. Он хороший и добрый. Но он – мальчик. А некоторым мальчикам никогда не понять, что значит носить ребенка от насильника, и почему хочется от него избавиться, и почему ощущаешь себя при этом чревом нечистот. Ему никогда не понять по-настоящему сестры, но, справедливости ради, он любит ее и так, не стараясь понять особенно. Не кричит, не ругает, а скрепя сердце ухаживает за ублюдочным племянником – ведь он его кровь, что бы там сестра о нем не думала. Вот этот страшный, чудовищный парадокс, который понимаешь не сразу – он взрывает твою душу. Никакой психолог (которого, разумеется, в этом курдском лагере нет) никогда никакими гештальтами, рассуждениями о травме и «ты не виноватая» не сможет ничего ни объяснить, ни, тем более, вылечить. Ты просто вдруг понимаешь, что психолог или психотерапевт мог бы навернуть с горы разной лжи, псевдомудрости, обмана, чтобы замылить глаза девочки. Да только вот ни ты сам, ни девочка не поймете этой мудрости. Или поймете, но не примете. И при этом и она, и ты понимаешь тоже вроде бы очевидную истину: что мальчик, он же просто ее сын, он же не дитя войны, он просто ребенок, ни в чем не виноватый. Вот эти две очевидные истины – они и после фильма остаются очевидными, а ни развязать узел, ни даже разрубить его, отделив одну от другой, никому и никогда не удастся.
Ты видишь, что девочка хочет избавиться от этого четырехлетнего человечка – и ты не можешь ее осудить, ты мало того, что не в праве, тебе это даже в голову не приходит: кто ты такой вообще, чтобы судить ее? Человек в кресле перед экраном? Кинозритель лукаво мудрствующий? Критик, холодно препарирующий душу киногероини? Это вам не "Выбор Софи", в "Выборе Софи" выбор делает Софи. В «Черепахах» выбор приходится делать зрителю, а выбор, увы, не делается. Да он и не может быть сделан. Права девочка или не права, ей-то уж точно не интересны наши философствования и этические парадоксы. Для нее это не парадокс, а свинцовая боль, которую надо срочно выдернуть из себя, зубная боль, которую нужно прекратить. И когда девочка по совету брата набирает в рот керосину, пытаясь унять зубную боль, а потом идет к озеру, чтобы, облившись керосином, попытаться сжечь себя – за ней тащится и ее ребенок. И девочка в отчаянии – она, никогда в жизни не читавшая Софокла и Еврипида – наверное, лучше всех нас понимает, что такое трагедия, нутром понимает, в прямом и переносном смысле слова. И ее молчание, молчание кроткой – это молчание трагического героя. Ведь как писал один умный человек, «у трагического героя есть только один полностью подобающий ему язык: молчание. Оставаясь в молчании, герой разрушает мосты, связывающие его с Богом и миром, и поднимается из юдоли личности…через речь, в ледяное одиночество самости». Странный случай: перед нами вырастает трагический герой, и этот герой – молчаливая 13-летняя девочка. И когда ты видишь снятые ею башмачки перед прыжком в окончательное молчание – уже действительно понимаешь, почему она неподсудна: ни тебе, ни режиссеру, ни героям. Ни даже Богу. Да ты и сам немеешь при взгляде на экран, где столкнувшаяся с бездной, с болью, с войной девочка встает перед выбором: или жить с этой невыносимой болью дальше, или встать в полный рост безъязыкого, но и бесстрашного, античного героя – и прекратить боль. Да, прекратить боль, убив ребенка – но, если вы посмотрите кино, я с интересом выслушаю ваши аргументы суда и наказания ее. Боюсь только, что их не будет. И вы будете также немы, как я.
Ну, и теперь, причем же здесь наш Гекльбери Финн? Который не встречает с криками радости так долго ожидаемых им американцев? А вот никогда никому в голову не приходило, что даже если солдат провел на фронтах пять лет, видел какие угодно ужасы, отрезанные головы, перебитые осколками хребты, перееханные танками детские тела – он все-таки мог и не увидеть войны (также, как человек может слушать музыку, но не слышать ее)? А вернуться домой, и, увидев пустую комнату друга, который с войны не вернулся – наконец-то, увидеть ее? Или вот ты на похоронах, но при этом не на похоронах на самом деле, ты просто не чувствуешь этого (вот как дети, да). Ты смотришь на это погребение, смотришь в упор – но не видишь его. И только спустя дни и даже недели от какой-то маленькой, малозначительной детали – вдруг, наконец, прозреваешь и видишь смерть, и видишь похороны. Это тоже странный парадокс. И наш герой как никто его олицетворяет. Казалось бы, он знает, что такое война, и его друзья-дети, с оторванными конечностями, тоже знают о ней не понаслышке. И брат девочки, казалось бы, много и долго смотрел на ужасы войны. Все они смотрели на ужасы войны в упор – но не видели ее. А девочка – увидела. Увидела, онемела от ужаса и боли, и захотела перестать быть. И потерянные, пустые глаза брата девочки и нашего очкарика – это глаза уже не детей, и не сказать, что взрослых. Тут категории возраста не имеют смысла. Точно знаешь только одно: это вот глаза тех, кто до сих пор не раз смотрел на войну, бежал от войны, играл с войной – но только сейчас, наконец, увидел ее.
Только потому что девочка увидела ее – и показала им.