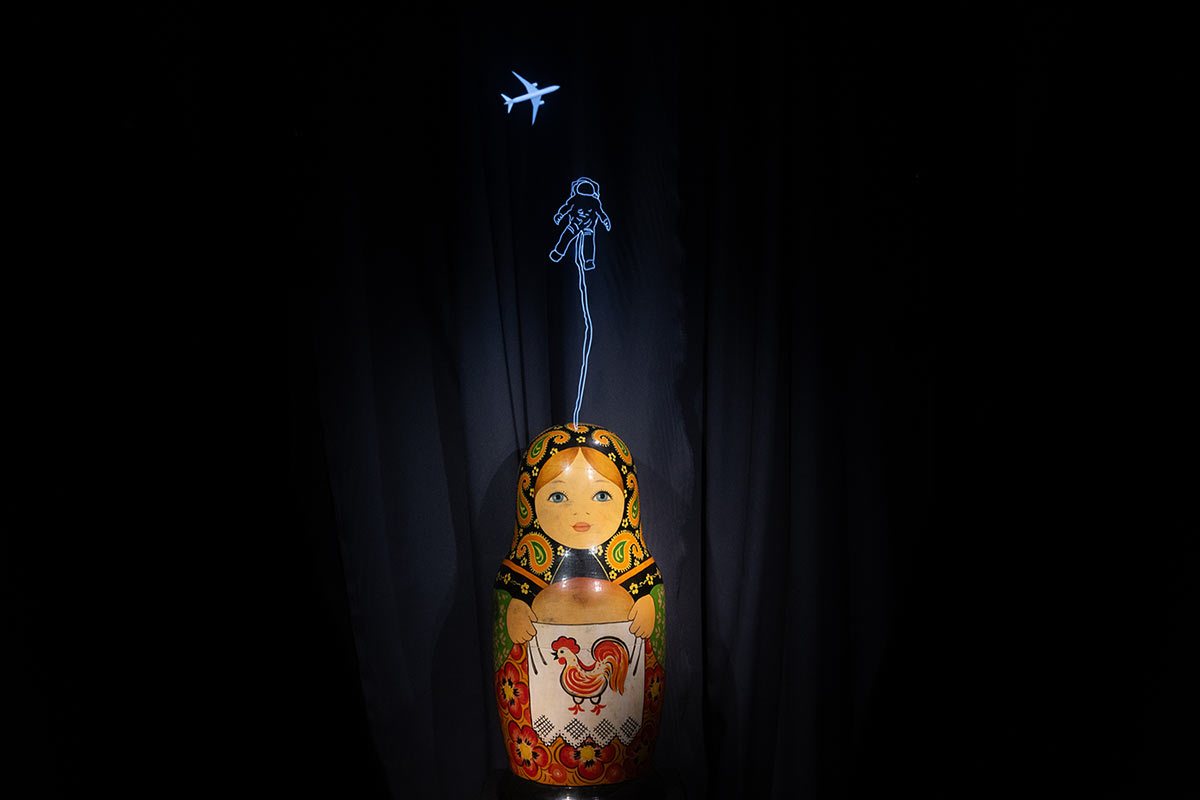Выставка Искусство ХХ века
| Историческая |
Как вам выставка?
Рецензия Афиши

Забегая вперед, из зала №1 сразу в №38, надо сказать, что ничего прям такого, чтобы прям разэдакого, не произошло. Даже непонятно в итоге, зачем это вообще надо было — сворачивать прежнюю экспозицию ХХ века, образца семилетней давности, не отличающуюся от нынешней принципиально — ни вещами, ни именами, ни их последовательностью; в Третьяковке возражают: нет, прежде было скучно и непонятно, теперь веселее и доходчивее. В частности, сделан ремонт. Который должен был радикально преобразить интерьеры на Крымском — однако же не особенно преобразил. То есть что-то он там, безусловно, преобразил, да проку. Если зритель неспособен заметить без подцвечивания стен, что он переходит из зала в зал; если ему и прежде история русского искусства в ХХ веке казалась тягомотиной, — зрителю и теперь будет непросто. Виной не русское искусство, но сама конфигурация залов на Крымском — воплощение скуки смертной. Которая транслируется и на содержимое этих залов, есть такой эффект.
А что самое неприятное в этом эффекте — не отпускает. Зритель вынужден либо дойти до последних палестин, либо, если устал или еще что, — проделать весь путь обратно, и никак иначе. Бестрепетно двигаться вглубь Третьяковки на Крымском можно или по недомыслию, или по невежеству — не зная, что это такое, Третьяковка на Крымском, что это, возможно, худшее музейное помещение из существующих; как легко здесь сделать закавыку в самом последовательном развитии, как спотыкались в прежней версии об лианозовцев, будто ниоткуда взявшихся посреди извилистого третьяковско-крымского маршрута, — так и сейчас, обязательно на ровном месте случается некоторое «вдруг». Вдруг появляются Михаил Рогинский и Борис Турецкий с их выразительной, брутальной бытовухой, не вписывающейся ни в каноны, ни в антиканоны, из какового противостояния складывалась интрига всей предыдущей экспозиции: вот, зритель, зажравшиеся правоверные сталинисты, а вот неортодоксальные творцы типа Татьяны Мавриной или Роберта Фалька (Турецкий с Рогинским не принадлежали ни к первым, ни ко вторым); вот официальное стилевое однообразие, а вот реальное «многообразие художественных поисков» (заглавие одного не то зала, не то полузала). Вдруг возникает старейший наш абстракционист Юрий Савельевич Злотников. Которого, возможно, стоило бы связать с матюшинским кругом, залами двадцатью и часом ранее (и там и тут наблюдаются головоломные трактовки абстрактной формы; похожа и сама форма местами, но главное — эта самодельность, желание своим умом дойти до всего), хоть отсутствие действительного контакта Злотникова с матюшинцами делает эту аналогию почти ничтожной. Получается, что возникает Юрий Савельевич ниоткуда. Как и весь андеграунд. Который — тоже вдруг — после споров об однообразии и многообразии оказывается единственным искусством (на протяжении залов 30-31, где Третьяковка представляет вещи из крупнейшей частной коллекции 50-70-х, Евгения Нутовича), а потом вдруг вновь экспозиция дробится на собственно нонконформистов, нонконформистов не вполне и вполне конформистов — и вроде бы это как-то должно вытекать из предыдущей истории, как-то объясняться ею, но что-то не вытекает и не объясняется.
А в зале №38 сюжет закругляется совсем странно. Хотелось, видно, чего-нибудь такого, запоминающейся экстравагантности под занавес — это во-первых; во-вторых — не изменять установке на веселость и доходчивость. И заказали Александру Виноградову и Владимиру Дубосарскому, записным весельчакам, большую виноградоводубосарскую махину. Те сделали Третьяковке длиннющий фотомонтаж, где соединены персонажи известнейших произведений, от Крамского и Сурикова до Пластова и Александра Герасимова (крамская «Незнакомка» выглядывает из-за плеча герасимовских Сталина с Ворошиловым; коринский Жуков восседает одесную «Девочки с персиками»; кустодиевская «Русская Венера» моется вместе с брюлловской «Вирсавией»), вещь по своей монтажной устроенности очень виноградоводубосарская. Но не живопись. Фотохолст — лишь кое-где чуть тронутый краской; рядом крутится видео, запечатлевшее момент, когда художники позерски проходятся кистью то там, то тут — ровно столько, сколько необходимо для образа таких, знаете ли, классических живописцев — в левой руке палитра, в правой кисть, — коими живописцами они никогда не были. Если кураторам хотелось что-то вроде дайджеста под конец, к вящей дидактичности, — получилось нечто совсем другое. Или это такая ирония? К месту ли?
Стоит вообще придавать этому какое-то особенное значение? Тому, как возвращаются мотивы, сюжеты, приемы (бурлюковская пародийная заумь «Концепированной по ассирийскому принципу лейтлинии движения» и что-то похожее в «Исчезновении траектории» Кропивницкого-младшего), или все это ничего не значит? Просто так — вышло. Как вышло — а теперь де-факто утверждено, — что историй русского искусства второй половины ХХ века две. Одна — что презентовали сейчас. Вторая появилась еще год назад, когда запустили первую очередь обновленной экспозиции на Крымском, самое начало ХХ века — от Ларионова с Гончаровой до Малевича и Татлина — и самый конец, от Инфанте с Колейчуком до группы «Синие носы». Самым концом занимался отдел новейших течений Андрея Ерофеева; конец занял залы начиная с 42-го — с конца — до 39-го. После чего надо подниматься этажом выше. Где сейчас Виноградов с Дубосарским. История в варианте Ерофеева выглядела убедительно; превращение космических дерзаний русского авангарда начала века в концептуальный проект конца происходило последовательно и логично. У Ерофеева тоже был Рогинский, но Рогинский — автор «Красной двери», первого русского объекта, а не Рогинский-живописец. Свой Злотников. Свой Эрик Булатов. Свой Игорь Макаревич. Семь лет назад, когда неофициальное послевоенное советское искусство впервые попробовали включить в третьяковскую экспозицию, выглядело это довольно-таки шизофренически: в двух параллельных анфиладах, провоцируя сравнения, развивались две параллельные истории. И если в одной не было места для грязных абстракций Марлена Шпиндлера на мешковине, то другая исключала, соответственно, крупноформатную «заказуху» лауреатов Государственныя, и Ленинския и прочая и прочая. Разделение было идеологическое. Теперь, когда оно стало формалистичным, эти линии, традиционалистская и актуальная, не то что не пересекаются в пространстве — кажется, они вообще из разных миров.