
Все отзывы о фильме «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину»
Как вам фильм?
Рецензия Афиши

Немолодой поэт Бродский (Дитятковский) плывет на пароме не то через Гудзон, не то через Стикс (отсутствие команды указывает скорее на второе), изредка бросая в пространство отрывки из собственных поздних эссе. Тем временем в Ленинграде 40-х, 50-х и 60-х сперва маленький (Оганджанян), а потом довольно высокий Ося (Смола) разглядывает в отцовский бинокль стенку с хрусталем, целится из незаряженного пистолета в портретик Сталина, мяукает под гимн СССР, видит в рюмочной Шостаковича, зачитывается «Книгой о вкусной и здоровой пище» и дореволюционной скабрезной прозой, одну за другой мимо смущенных родителей (Юрский и Фрейндлих) водит за ширму стыдливых сверстниц, немножко пьет водку, умничает в компании про тиранию и Пруста, объясняет годаровским девушкам, почему в России «п…дрят дворники с машина».
Бородатый довлатовский анекдот про «где живет не знаю, но умирать ходит на Васильевский остров» — слишком эффективный осиновый кол против любых топографических сантиментов вокруг Бродского, чтобы его применение продолжало быть честным приемом, но пуховая нежность, с которой хороший мультипликатор Андрей Хржановский (автор «Дома, который построил Джек» и знаменитого цикла о Пушкине) подошел к любимому поэту, — в первую очередь почему-то провоцирует именно ванхельсинговские порывы. Снимавшиеся чуть ли не 10 лет «Полторы комнаты» сделаны на стыке почти всех возможных форматов: закадровый текст от первого лица сшит из автобиографических текстов Бродского (большей частью переведенных с английского и аккуратно приправленных словом «значит» и характерными вопросительным «да?» в конце предложения). Завсегдатаи черно-белой сосисочной на германовский манер бормочут хрестоматийные строчки про Мадонну и гондон. Над любовно отретушированным Ленинградом все время что-то летит — то скрипки с контрабасами (символизирующие, кажется, сталинский план депортации евреев), то косяк рисованных пегасиков; на закорки Бродскому трогательно усаживается мультипликационный кот (последнее даже в свете хорошо задокументированного доброго отношения героя к котам выглядит скорее проявлением личной обсессии биографа). Наверняка искренним и сделанным с большой любовью «Полутора комнатам» трудно, да, наверное, и странно предъявлять какие-то вкусовые претензии. В конце концов, нет закона, запрещающего двойные названия с запятой перед «или», как нет и закона, запрещающего смотреть на Бродского и видеть расписного котика. Есть, к сожалению, совершенно другой — про то, что действие равно противодействию, — в исполнение которого на каждого Зигфрида отыщется свой Хаген, на каждого Пастернака — Дмитрий Быков, и если можно с другими, почему, собственно, нельзя с Бродским. Впрочем, как говорит в фильме сам персонаж (не о себе, разумеется, а о петербургской архитектуре) «человеческая лажа заметней на этом фоне». Это факт.

На мой взгляд - лучшее, что создано в отечественном кино за последние годы. Особенно для тех, кто помнит своё детство, любит Петербург, кошаков и хотя бы раз читал Бродского.
К сожалению, широкий прокат фильму не грозит. Но постарайтесь посмотреть. Этому Городу редко с такой искренностью признаются в любви.
...Вы говорите с родителями о погоде? давно признавались им в любви?
Вы цените Петербург и часто ли смотрите вверх?
Вы возвращаетесь на родину?
Помните ли детство? Продолжаете ли его?
- мы никогда не понимали твои стихи, - сказала мама Иосифу. разве для них важна его нобелевка? для них важен мяукающий красивый умный сын и то, что он покушал вчера.
на улицах Лениграда можно было встретить Ахматову и Шостаковича.
на улицах Петербурга можно встретить разве только Фрейндлих и Крючкову. да и улицы поменялись. Хржановский исследует имперский Петербург, Ленинград, нынешний город - и в каждом из них находит что-то красивое
После фильма ноги сами несут мебя к решетке Летнего сада со стороны Мойки. это ведь плохо - увидеть решётку в фильме и не иметь возможности к ней проти сразу же. это же счастье - иметь такую возможность. догонять чаек на Фонтанке. идти без плана, сейчас налево, а потом - почему-то направо. и малыши, которых выгуливают родители, смотрят на эти дома, отражения. особое воспитание - воспитание этим Городом. тут ненароком вырастит нобелевский лауреат.
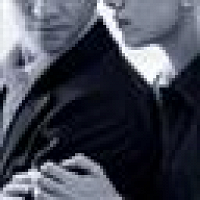
Фильм выпендрежный, но настолько искусно сделанный, и так напоминает какую-то невиданную доселе диковинную музыкальную табакерку, что хочется только хвалить. И кастинг, кастинг такой замечательный. Актерам удается сделать немыслимое и продраться к сердцам зрителей через всю избыточность форм. Когда Френдлих поет по телефону "ночь коротка", сердце сжимается.
Может быть фильму не хватило интонаций для рассказчика, и мы не увидели человека-Бродского, но мы увидели город Бродского, мы смотрели на Петербург Его глазами.

"Эти 10 квадратных метров принадлежали мне. И то были лучшие 10 метров, которые я когда-либо знал. Если пространство обладает собственным разумом и способно высказывать предпочтение, то, возможно, что хотя бы один из тех 10 метров тоже может вспоминать обо мне с нежностью, тем более теперь, под чужими ногами". Так писал поэт в знаменитом эссе о своем уголке в коммунальной ленинградской квартире, где он жил с родителями.
Фильм, точнее сказать, коллаж Андрея Хржановского "Полторы комнаты" идет в Москве одним экраном на одном сеансе (во всяком случае, сейчас, и не думаю, что присуждение ему какой-нибудь премии эту ситуацию кардинально изменит). Оно и понятно: желающих смотреть художественный фильм про Иосифа Бродского да еще со вторым - пресноватым - вариантом названия - "или Сентиментальное путешествие на родину" наберется не так уж и много. Вчера нас было человек 15.
Что сказать о фильме? Мне это все напомнило модную сейчас на Первом и других каналах "реконструкцию", когда в документальных программах исторических героев изображают актеры и все это монтируется с хроникальными кадрами и фото. Плюс обилие закадрового текста, который порой впрямую озвучивает то, что происходит на экране. А в данном случае - еще и анимации (по первой профессии Хржановский - мультипликатор).
В "Полутора комнатах" невероятно похожий на позднего Бродского Григорий Дитятковский соседствует с "живым" Бродским, поющим "Очи черные" в ресторане "Русский самовар". Сходство потрясающее и пугающее! Евгений Рейн, который сыграл в этом фильме Евгения Рейна (точнее, рассказал одну из баек про Бродского, три раза в присутствии Бродского-Дитятковского, назвав его в третьем лице, - впечатление, что Рейн не соображает, что находится на съемках художественного фильма про его друга, а не на пирушке в ресторане ЦДЛ), говорил, что его эта похожесть испугала. Но кроме сходства, играть г-ну Дитятковскому в общем-то и ничего: покурил, выпил кофе, посмотрел вдаль, прогулялся, чего-то съел... Глядя на него, не понимаешь, почему этот пожилой человек - гений.
Вообще Бродских в фильме три: мальчик (Евгений Огаджанян), юноша (Артем Смола) и уже Нобелевский лауреат. Двум первым, с точки зрения актерского материала, повезло больше. Хотя действия явно затянутому фильму не хватает. Это уж точно не "Полное затмение" Агнешки Холланд. Драматургия (сценарий самого режиссера и Юрия Арабова) нелинейная, память поэта, плывущего как бы в Питер, прыгает туда-сюда, усиливая абсурд, эклектику и сюр, которых так много в этом трепетном фильме...
"Полторы комнаты" цепляют и остаются в памяти, несмотря на то, что все уже сто раз читал и знаешь жизнь Бродского лучше, чем собственную. Очень хороша Алиса Фрейндлих в роли матери поэта. Тем, кто любит Сергея Юрского, понравится и он в роли Бродского-старшего. И, безусловно, хорош Ленинград в роли советского Ленинграда. Современный Питер с обилием рекламы и некрасивого люда, куда якобы все-таки приплывает поэт, уже не так чудесен...

По волнам его памяти
«Воротишься на родину. Ну что ж. / Гляди вокруг, кому еще ты нужен…» – эти строчки Бродского оказались пророческими. Фильм о его жизни, который удостаивали наградами за рубежом, демонстрировали в Москве только в одном кинотеатре. Еще одним местом, где фильм обрел своего зрителя, оказался театральный Центр им. Вс.Мейерхольда. И дело здесь не в плохой рекламе.
Бродский писал: «Время, столкнувшись с памятью, узнает о своем бесправии». Эта фраза как нельзя лучше подходит к фильму. Воспоминания о том, чего никогда не было – это понравилось бы ему.
Фильм – не биография поэта, а киновоспоминание, киноэкскурсия (все зависит от возраста зрителя) в атмосферу эпохи. Кто-то вспомнит, а кто-то увидит войну, «сетки, сумки, авоськи, кульки», коммуналки, пивные, «дефицит», памятник Ленину, прогулки, диспуты, словом, молодость. В этих «полутора комнатах» поместилась жизнь целой страны и одного из тех «кого она вскормила», а потом, как это часто бывало в нашей истории, заставила «пересечь черту».
Все разговоры о том, что фильм псевдобиографичен – лишнее доказательство несвоевременности, а по Бродскому, неуместности («нам не нравится время, но чаще место») этой картины сегодня. Поэту была мала эпоха и фильм о нем идет на опережение.
Анимация (в т.ч. рисунки поэта), стихи, хроники, видеозаписи с Бродским – все то, что трудно сочетается, слилось в удивительно органичную по композиции историю. Все, что есть в фильме – уместно, а это особенно важно, когда речь идет о гении, чей образ жив в памяти современников. Здесь нельзя превозносить, но и недооценивать невозможно.
Фильм наполнен стихами. Они звучат без надрыва и пафоса, звучат не потому, что в фильме о поэте они непременно должны быть, а потому, что они – концентрированное выражение времени. Подборка и их вкрапления – высоко профессиональны, они не просто произносятся за кадром, но, порой, служат и фоном для диалогов (например, в пивной посетители общаются строчками из Бродского).
Здесь все приемы не новы, но сочетание их выверено режиссером абсолютно. Здесь не возникает желания, как «подрезать» какие-то части фильма, – потому что всего в меру, а один кадр вмещает больше, чем на нем отображено. Вообще это фильм, в котором больше хочется говорить о тех, кто за кадром, может потому, что актеры Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский – вне всяких сравнений, а внешнее сходство и манера речи Григория Дитятковского порой создают документальность истории: так похоже все на правду.
Не важно как вы относитесь к Иосифу Бродскому, любите или нет, понимаете или нет, знаете или нет, – этот фильм для всех и каждого. Фильм Андрея Хржановского, как не парадоксально, менее всего о Бродском. Он о нас, о нашем прошлом, от которого сегодня отказываются и которое постепенно возвращается в виде всяческих стилизаций, атрибутов, и главное, настроений. Возврата нет (и слава Богу!), но почему тогда тот неустроенный быт и несвобода так прельщают? Мы пытаемся забыть, предотвратить повтор, но при этом нежно лелеем воспоминания (недаром мемуары нынче снова в моде).
«Полторы комнаты…» – это страна, в которой все те, кто составил славу и гордость других государств, оказались не нужны и выброшены. Часто, читая биографии нобелевских лауреатов или известных на Западе людей, мы узнаем, что родились они в России и радостно произносим: «О, так он наш!». Пора перестать питать иллюзии и гордиться, они перестали быть «нашими», как только оказались здесь не нужны. Шереметьево-2 могло бы вести незримую летопись наших упущенных (отпущенных) побед и открытий. А парящие над «равнодушной Отчизной» (уже который век) музыкальные инструменты как символ вечно гонимого еврейского народа – одна из самых ярких сцен фильма. Подгоняемый холодным балтийским ветром плывет по небу этот клин (вышибаемый) из струн и грифов, плывет туда, откуда не будут гнать. На удивление эпизод встречается аплодисментами (невольно думаешь, неужели что-то изменилось в народном восприятии этой нации с вечно неловким для произношения названием).
Несмотря на то, что путешествие названо сентиментальным, никаких сантиментов вроде пьяных (дешевых) речей о ностальгии и тоске по родине в фильме нет. Это не про то и не для того. Конечно эта картина из категории Жванецкого «для наших, но туда». Это один из тех фильмов, по которому сегодня будут изучать, как жили «тогда в 40е, 50е, 60е», а завтра – как снимали кино тогда в первой половине XXI века. Это то немногое, что можно будет предъявить потомкам как образец киноискусства нынешней современности, за что не будет стыдно.
Фильм о прошлом, прожитом, растраченном. Но и о сегодняшнем дне здесь сказано достаточно: бессмысленная суета, ругань, бесконечные выяснения отношений, грязь под ногами и перед глазами, а трогательных ворон на подоконнике сменило воронье. Снесены дома, выселены люди, дух и души замурованы в евроремонты офисов. Многое ушло безвозвратно, ушел и Бродский, но он предвидел: «В иной стране — прости! — в ином столетьи / ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно, и я в могиле торопливо вздрогну.»
Журнал «Российское кино — РУСКИНО» http://ruskino.ru/review/348
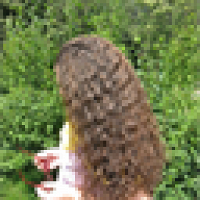
Я спокойно относилась к личности и творчеству Иосифа Бродского. Но посмотреть фильм о его жизни меня сподвигло участие таких актеров, как Сергей Юрский и Алиса Фрейндлих в роли родителей поэта.
Очень трепетная и нежная картина в черно-белых тонах, без излишней и ненужной окраски. Поэт плывет по морю на Родину, в родной Ленинград, как когда-то мечтал он с Барышниковым именно таким путем добраться до города своего детства. Потому что только на корабле, может, даже на бумажном кораблике, можно приплыть в детство, где все живы, где нет беды, а только любовь и забота милых родителей. А сейчас за окно дома в городе, где живет поэт, стали прилетать две черные вороны. Сначала прилетала одна, когда умерла мама, а потом стала прилетать вторая, когда умер и отец. Так вот, наблюдая за воронами, изгнанный с Родины поэт, вспоминает детство и мысленно общается с этими птицами.
Густонаселенная питерская коммуналка. Отец мобилизовался в 1948 году перед самым Новым годом, привез экзотических гостинцев жене и сыну (он был фотографом-профессионалом, во время войны – военным корреспондентом на Ленинградском фронте, после войны служил на флоте капитаном 3-го ранга). Мама нарядилась в подаренное кимоно, с восхищением расставила в буфете тончайший китайский сервиз и, прикрывая лицо маской театра «Но», привела в восторг и восхищение своего маленького сына. Мальчик наблюдает из своей детской кровати за общением любящих и любимых родителей, заботящихся о своем единственном сыне и друг о друге. Его огромные черные глаза распахнуты и постоянно удивлены.
Послевоенный Ленинград. Зарплаты хватает с трудом на самое необходимое, ребенок худющий. Мама достает из заначки деньги и отправляет своих мужчин за лакомством для ребенка. И папа покупает 50 граммов черной икры, которая размазывается по огромному листу оберточной бумаги, и неизменный рыжий кот пытается ухватить и себе такого лакомства. А кот-то рыжий, как и будущий Нобелевский лауреат. И когда поэта выдворили из родной страны, то родители общались с котом, как будто с сыном. Трогательно и мило.
Этот фильм о любви родителей, о семье, о таком маленьком, интимном мире одной семьи, об их огромных добрых сердцах, любящих друг друга. Наши большие актеры (Сергей Юрьевич Юрский и Алиса Бруновна Фрейндлих) не играют, а проживают судьбу своих героев. Их не молодят искусственно и не старят натужно. Они на экране такие, как и в жизни со всеми возрастными изменениями, которые только добавляют силы восприятия и понимания происходящему.
Еще хочется написать об игре актера Сергея Дрейдена в роли дяди-реставратора. Маленький Ося гуляет по музею, пока его отец общается с братом, т.е. попивают водочку, а потом дядя отплясывает в своей мастерской на радость племяннику. Мальчик знал уже все экспонаты наизусть, поэтому дядя давал ему старинную книгу «Мужчина и женщина» с пикантно-подробной информацией, что распаляло интерес подрастающего мальчика. Эту книгу мальчик мечтал выкрасть, но дядя, тайно от родителей, дал ее ребенку на изучение. Какова же была реакция отца и мамы, когда они стали рассматривать этот фолиант: «Он не читал Достоевского, а уже читает эту книгу!» «Что говорить о Достоевском, он и «Мать» Горького не читал!» А сами потом с похихикиванием листали эту забавную книженцию.
Фильм наполнен милыми, нежными, трепетными моментами. Все это обрамлено музыкой Моцарта, Бетховена и Баха. Взросление поэта, его бесчисленные девушки, которые регулярно приводятся им в огороженный угол в комнате коммунальной квартиры. Всепонимающее молчание родителей и неизменное: «Здравствуйте», и «До свидания». Кухонно-крышные посиделки молодежи под винцо и стихи начинающего поэта. Прогулки по Ленинграду, дело врачей, борьба с космополитизмом, ожидание родителей высылки в места не столь отдаленные и смерть Сталина, как конец беспроглядного кошмара и начало пугающей неизвестности будущего.
В малюсеньком эпизоде обыска в комнате Анны Ахматовой, которую сыграла невероятная Светлана Крючкова, звучат провидческие слова поэтессы о будущем Бродского. Сразу вспомнила фразу из книги воспоминаний Анатолия Наймана (литературного секретаря Анны Ахматовой): «Какую биографию делают нашему рыжему!». Так сказала однажды Ахматова о молодом Иосифе Бродском - когда его сначала судили за тунеядство, а потом отправили в ссылку. Она предчувствовала, какую услугу окажут ему его гонители, наделив его мученическим ореолом.
Знаете, этот фильм смотрится, затаив дыхание, с пощипыванием глаз. Потому что вглядываешься в каждый эпизод, боясь упустить даже малюсенький момент. Ведь Бродский так и не вернулся на Родину. Поэтому — фильм фантазия авторов, и совпадение с реальными персонажами случайна.
Как будто поэт вернулся в Ленинград. Родителей нет в живых, он входит в комнату своего детства, а родители сидят за столом и рассказывают ему о своей жизни. Как их не выпускали к нему проститься, унижали в бесконечных очередях за разрешением на выезд. Как у мамы выкрали деньги при покупке билета в санаторий Кисловодска (врачи обнаружили язву), потом уже после ее смерти папа выплачивал занятые деньги. Они по-прежнему жили в той самой комнатушке, разговаривали с рыжим котом, смотрели по телевизору награждение сына Нобелевской премией, общались с ним по квартирному телефону, переживая, что сын с голодухи питается омарами: «Мама, ты помнишь раков? Так омары еще хуже». Сын звонит им из эмигрантских ресторанов, где происходит общение с соотечественниками. Вопрос Бродского к эмигрантской даме: «Ваша светлость, Вы помните русскую поэзию?» Ответ: «Только две строчки: Посмотри, родной народ, может, кто тебя е...ет?» Все перепуталось в мире. Людей высылают с Родины, потом гордятся этими же людьми, потому что те получают всемирную известность.
Еще трогательный эпизод. Маленький Ося идет с отцом в магазин. По дороге папа рассказывает сыну о городе, мальчик присаживается на мрамор у решетки завязать шнурок, и у этого же места, уже в предполагаемом путешествии на Родину, Нобелевский лауреат останавливается и вспоминает этот момент из детства.
Вороны каркают, поэт общается с ними и ждет встречи с родителями уже в другой жизни.
Фильм сентиментален и добр, весь пропитан любовью и пахнет Невой. Любовь родителей — это единственное, что останется постоянным, никогда не изменится. Хотя бы в мыслях человек может вернуться в дом детства, где родители не устают ждать и надеяться на встречу.

Иосиф Бродский утверждал идею индивидуализма. Под индивидуализмом он имел ввиду самостоятельность и «оригинальность мышления», независимость и «разноликость». Андрей Хржановский, классик отечественной анимации, взявшись за кинематографическое повествование о Бродском, прекрасно уловил это убеждение поэта. Фильм, соответственно, очень по-бродски получился не похожим ни на что. В наш прагматичный век картина кажется сказочной выдумкой, словно бы пришедшей из другого, более поэтического и светлого мира.
«Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину» — это не стандартная биография, построенная по принципу школьной задачи «из пункта А в пункт Б вышел поезд». Это остроумная и добрая фантазия, игра, основанная, в первую очередь, на произведениях поэта. Не случайно, по мнению некоторых, аналогом фильму среди литературных жанров могло бы быть только стихотворение. На первом плане здесь не сухие факты из жизни человека, а сам человек, его чувства, впечатления, ассоциации, мысли, его творчество, в общем, та суть, что составляла его внутренний мир. Дабы подобные вещи передать, Хржановский совмещает в своей ленте целый набор различных изобразительных техник: Вы увидите здесь и игровое кино, и документальное, и псевдодокументальное, есть и фотография, и, самое восхитительное, — прекрасно исполненная анимация. Благодаря всему этому «аттракциону» на наших глазах реальная жизнь героев переплетается с вымышленной, сны — с мечтами и фантазиями, а прошлое, дробясь на многочисленные слои, — с современностью. Словами самого Хржановского, получается «волшебное кино».
Многие из нас верят в то, что человека после смерти ждёт встреча с близкими ему людьми. Такая посмертная встреча становится сюжетной основой фильма. Уйдя из жизни, Иосиф Бродский, в исполнении Григория Дитятковского, наконец-то отправляется в долгожданное путешествие на родину, в нынешний Санкт-Петербург, к своими родителями, играют которых великие Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский. Поэт не видел отца с матерью с момента вынужденной эмиграции в 1972 году. В середине 80-х родители умерли, поэтому, когда пал «железный занавес», смысла возвращаться поэт не нашёл. Нужный момент настал лишь после его смерти. «Путешествие — лучшее время для воспоминаний», и, плывя на пустом корабле, Бродский вновь переживает многие дорогие ему моменты своей жизни.
Вот он видит блокаду и эвакуацию, а вот он во сне вместе с котом порхает в небе Ленинграда и Венеции. Вот в голодные послевоенные годы он вместе с «вождём» совершает фантастическую экскурсию по «Книге о вкусной и здоровой пище», а вот тот самый «вождь» умирает. Вот он живёт в коммуналке «самого красивого дома в Петербурге», где комната его семьи разделена фанерной перегородкой так, что из одной комнаты получается «полторы», а вот он представляет, как до революции в том же самом доме бывали Блок, Ахматова, Мережковский. Он вспоминает своих родителей, девушек, друзей, своего кота, тех, кто повлиял на его становление. Он вспоминает «музыку на костях», «антисоветские» беседы, американскую выставку в Сокольниках, и другие «мелочи», что составили его жизнь и нашу историю. И он вспоминает стихи, рождавшиеся под впечатлением от всех этих встреченных событий и явлений. В его теплых и ироничных, лишенных стенаний и горечи воспоминаниях, — жизнь целой страны и целого поколения, первого, не пожелавшего мириться с навязываемыми советскими догмами, и последнего, «для которого были ещё важны культурные ценности».
Бродский, к огорчению многих, в этом фильме не являет собой идеализированный образ поэта, тем более он не выглядит страдальцем, «проклятым коммунистическим режимом». Бродский здесь очень прост, для кого-то, быть может, даже приземлён. Но в этой его простоте как раз и просматриваются черты, которые позволяли ему выделяться на фоне других, а именно: неудержимая и свободная фантазия, и стремление к независимости и самостоятельности. «Если кто-то не согласен с моим мнением, то это только прекрасно», — провозглашает поэт своё кредо на одной из шестидесятнических вечеринок. Бродский призывает «быть собой» не только словами, но и собственным примером. Что бы ни случилось, спор с другом или с представителем ГБ, ссылка в деревню, или высылка за границу, он остаётся собой, то есть человеком и поэтом. Всё вокруг он воспринимает с неизменным терпением и со спасительной иронией. Трудности его не тревожат: «Что тут вспоминать?» — говорит он о них. И даже самая большая трагедия его жизни — вынужденная разлука с родителями, на первый взгляд не кажется нам трагедией: в перерывах между разговорами с матерью по телефону, поэт продолжает кутить и распевать песни с друзьями-эмигрантами. Но ведь часто самые горькие моменты жизни именно так и выглядят, незаметно, без эмоциональных взрывов, буднично, тихо и невыносимо тоскливо.
Фильм посвящён «памяти наших родителей». Именно родители и их дом в «полторы комнаты» стали для Бродского символом не только родины или детства, но и символом всей его жизни. В памяти он не расстаётся ни с домом, ни с родителями, он мысленно всегда остаётся с ними. И даже после смерти матери и отца, поэт видит их в двух воронах, поселившихся в его доме в Нью-Йорке. Пройдя свой путь, Бродский убеждается в том, что всё настоящее, всё ценное и важное было только в домашнем «гнезде, из которого так нестерпимо хотелось бежать». Пройдя через непонимание, презрение, разлуку, эмиграцию, Бродский вернулся в своё гнездо, удивительным образом не расплескав ничего из того лучшего, что было ему здесь дано. Правда, возвращение состоялось не в этой жизни, а в той, другой, да?

Прекрасный, тонкий и интеллигентный фильм.Удивительная и естественная гармония актеров и постановщиков фильма.Пытаясь проникнуть во внутренний мир Бродского и разобраться в его образах, авторы вместе со зрителями подобны человеку, пытающемуся задержать воду в ладонях.От этого становится одновременно легко и грустно, а суть гениальности поэта в очередной раз загадочно прячется в его сигаретном дыме.

Сюжет- Бродский едет в Россию, по дороге вспоминая свою жизнь.
Фильм действительно не о Бродском- просто снят по мотивам его произведений, и по мотивам нашей жизни тоже.
Актеры- какие имена, такая и игра. Всех. Проб не было. Фрейндлих сначала согласилась, Юрский отказался. Из-за задержки начала съемок Фрейндлих отказалась, но Юрский надумал сниматься. В итоге сложился потрясающий тандем.
Режиссерская работа- снималась картина не менее 2 лет, еще 2 года длился монтаж (12 версий). Да, есть огрехи в звуке- да ну и что.
Судьба Бродского, время и общество, в котором он жил, люди, с которыми общался- это уже заслуживает внимания. А в фильме много эпизодов от первого лица.
Фильм не очень легкий, хотя и ироничный- посмотреть его нужно обязательно!

Автор заявляет тон - "Сентиментальное путешествие" по собственному "было". И следует по нему вместе с гидом не Вергилием, но Бродским, сама фигура которого провоцирует грусть. Лишняя фраза в конце фильма (и так понятно) - "Посвящается памяти наших родителей". Зрителю, дошедшему до конца, уже давно понятно, почему лента снята именно так: почему люди поют песни; каждая музейная вещица вызвана к жизни и тщательно живет в кадре, за которым постоянно звучит клавесин или "Случайный вальс". Режиссер пытлив и достоверен: ему важно не солгать. Ретро-стилизация перемежается анимацией, хроникой. Оживить воспоминания. Воссоздать отцов и поговорить с ними. Или просто спеть.
На самом деле "Полторы комнаты" - идеальная реконструкция для документальных лент стиля Парфенова. Абсолютно медиа-фильм (полистиличный), с прекрасными актерами и чтением стихов. Предельно личный, сказанный в литературной и традиционной манере, хотя рука-глаз А. Хржановского не позволяет ему не дать киноману пары вкусных кусков.
Не для молодых, нам здесь нечего делать. Но своему дедушке я его покажу.
P.S.: С. Юрский читает посвященное ему Иосифом Бродским стихотворение "Театральное" на берлинском вечере Бродского в 2000 году.
http://www.svobodanews.ru/content/feature/1984578.html

Очень приятный в эстетическом плане фильм без какой-то лежащей на поверхности мысли, но трогает. Красивый, местами смешной, местами грустный. Скучно не было, любовался практически каждым кадром. Юмор понравился... Питер понравился - такой разнообразный, чарующий, многоликий - совсем не такой, как по дороге с работы с авоськами или по колено в слякоти. В преддверие летнего сезона можно посмотреть, хотя бы чтобы воодушевиться на ночные прогулки по чудному заповеднику европейской архитектуры.
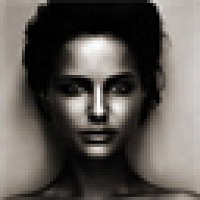
Фильм основан на произведениях Бродского, в частности на повести «Полторы комнаты», написанной поэтом в эмиграции на английском языке, где он мысленно возвращается домой, в попытке заново понять ту действительность, в которой вырос и в которой оставил престарелых родителей доживать своей век без сына. Фильм — тоже возвращение, в повествовании как физическое, так и мысленное — прогулка по старым местам, разговоры со старыми приятелями. В этом и есть главное достоинство Арабова (в прошлом сценариста Сокурова, теперь Хржановского и сериалов) — как и обыденное человеческое воспоминание, фильм тоже сумбурный, перепрыгивающий из пленки в анимационные зарисовки и обратно. В фильме только три героя — сам поэт Иосиф в различных возрастных границах, который плывет обратно на Родину, его мать и его отец. Отдельно стоит, пожалуй, выделить анимационного полуторного кота — к слову, «Полторы комнаты» можно охарактеризовать как расширенную версию более раннего проекта Хржановского «Полтора кота», которая тоже посвящена житию великого поэта.
Схема повествования содержит детство, юность и зрелость героя, со всеми свойственными характеристиками и вытекающими выводами, как например — все дети, будь то будущие гении или не гении, ведут себя одинаково, или о том, что родители так никогда не смогут понять до конца своих отпрысков. Фильм неторопливо скачет по значимым событиям жизни, чередуя их повторяющимися сценками, заканчивая историю полусюрреальным «как ты умер? — а я умер?». Но несмотря на то, что создателям удалось выхватить «сентиментальную» атмосферу из произведений Бродского и почти ежеминутный закадровый голос читает то стихи, то прозу Бродского, самого Бродского в фильме все-таки нет. Каждый поэт возвращается на Родину, Родина не принимает поэта, пока он не умрет, Питер одновременно и цитадель гениальности, и большое болото, а жить в той России, в которой людям приходилось жить — невозможно. С одной стороны, очень важным достоинством фильма является его многогранность и закадровые стихи, с другой же — единственный вывод, который просится — что снимать о гениях невозможно, потому что нужно быть тоже хоть чуть-чуть гением, иначе получается очень далеко от объекта обсуждения. В целом же «Полторы комнаты» хочется рассматривать именно как сентиментальное возвращение на Родину, но возвращение какого-то безымянного поэта. Хотя с этим все теряет смысл, разумеется.

Фильм очень понравился, хотя смотрела его, к сожалению, не в кинотеатре. А может быть, к счастью. Потому что могла дать полную волю своим эмоциям, смеху, слезам... Мне бы не хотелось раскладывать фильм по полочкам, я не кинокритик, а человек безумно любящий кино!))) Хотя не могу не отметить потрясающую игру Фрейндлих, Юрского, Дитятковского. Мне показалось, что они просто получали кайф от ролей, от атмосферы, в которую погрузил их режиссёр, от игры!))) Фильм вернул меня в детство, в воспоминания, к родителям, которых уже нет... Мне показалось, что настолько глубокому, искреннему, трогательному кино, как "Полторы комнаты..." в нашей стране пришёл конец, но, слава Богу, я ошиблась! Среди всеобщей "чернухи, порнухи и стрелухи", вдруг, как глоток родниковой воды, хрустальной, чистой и утоляющей жажду по СВЕТЛОМУ И ВЫСОКОМУ!!!
Скажу честно, только на второй раз удалось посмотреть фильм до конца. И не пожалел! Фильм лучше смотреть под особое поэтическое настроение. Фильм мудрый, познавательный, трогательный. Прекрасная музыка, поэзия, художественные образы, актерские работы!

Я не знаю и уже не узнаю, что они чувствовали на протяжении последних лет своей жизни. Сколько раз их охватывал страх, сколько раз были они на грани смерти, что ощущали, когда наступало облегчение, как вновь обретали надежду, что мы втроем опять окажемся вместе. "Сынок, - повторяла мать по телефону, - единственное, чего я хочу от жизни, - снова увидеть тебя..."
Иосиф Бродский. "Полторы комнаты".
От сегодняшнего российского кинематографа чудес ждать не приходится. Но "Полторы комнаты..." это... НЕЧТО. Весь фильм смотрелся на одном дыхании, а где-то с середины - на одних эмоциях и с наворачивающимися на глаза слезами. Мой словарный запас слишком беден, чтобы попытаться хотя бы в малой доле передать свои мысли и чувства. Лёгкий шлейф чуть горьковатого послевкусия с оттенком ностальгических нот, наверное, не скоро теперь растает в воздухе...
Великолепный фильм.
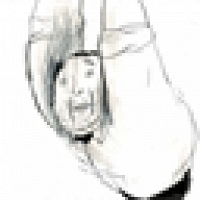
Маленький Бродский рисует котов, смотрит в отцовский бинокль и заглядывает под юбку учительнице. Юный Бродский водит девушек в полторы родительские комнаты, пьет водку в Летнем саду и спорит о Достоевском. Потом он превращается в коня. Все это время он хочет увидеть Венецию. Северная Венеция ему надоела. Эмигрировав и повидав мир, он начинает тосковать по дому...
Совершенно непонятно, почему про Бродского раньше не снимали кино. Он ведь очень кинематографичен. Романтичная внешность - красивый профиль, богатая шевелюра, сначала рыжая, потом седая. Романтичная судьба изгнанника и ученика Ахматовой. При этом изгнанник оказался очень удачливым - и стихи хорошие писал, и власть пережил, и Нобелевскую премию получил. Кроме того, он - наше поэтическое все за границей. Всего этого более чем достаточно, чтобы российская, а особенно питерская интеллигенция, отличающаяся фатальным отсутствием чувства юмора, влюбилась в Бродского как барышня в хулигана. При этом Cеверную Венецию Бродский любил в основном за архитектуру. А к родине в целом относился не то чтобы очень хорошо. В эссе «Полторы комнаты», давшем название фильму, он выразился по этому поводу вполне конкретно: «Ни одна страна не овладела искусством калечить души своих подданных с неотвратимостью России, и никому с пером в руке их не вылечить».
Но до подобных глупостей Андрею Хржановскому нет дела. Как, собственно, и до самого Бродского. Его цель – мир, который увидел ребенок, а вспоминает старик. Время, когда деревья были большими. На деле эта потрясающая задача обернулась скукой и дотошной реконструкцией послевоенного советского быта. Где главные герои – не люди, а вещи. Поэтому и детство Йоси - это бесконечные чемоданы и карманные фонарики. Отцовский пистолет. Походы в Елисеевский. Разглядывания старого буфета, где живет нарисованный кот. Все важные исторические события приходят к Бродскому через вещи – война кончается, когда домой возвращается папа и привозит маме синее кимоно и маску театра кабуки. Умирает Сталин, когда старшеклассники случайно разбивают его бюст. Дело врачей ознаменуется продажей пианино – семья готовится к репрессиям. Половая зрелость наступает после знакомства с книгой «Мужчина и женщина». Чтобы заняться любовью с девушкой, Бродский-юноша баррикадируется от родителей чемоданами и старыми газетами. За репродукцией старинной гравюры прячет бутылку портвейна…
Еще ловчее, чем Бродский, с вещами обращаются его неожиданно старые папа и мама – Алиса Фрейндлих и Сергей Юрский изображают родителей Бродского с сороковых и до момента своей, а потом и его смерти. Видимо, мысль поручить роль молодых предков своего героя более подходящим по возрасту людям просто не приходит режиссеру в голову. Он так любовно воспроизводит время своего и Бродского детства, что просто не хочет впускать в него сегодняшних молодых людей. Первые десять минут фильма речь вообще идет почти только о Бродских-старших. Они поглощены друг другом – целуются, танцуют танго и разглядывают трофейное барахло. Мама играет с веером, папа – с фотоаппаратом. Сын с изумлением наблюдает за ними через отцовский бинокль. Впрочем, он здесь не надолго – «главный» Бродский здесь – Григорий Дитятковский в лысине и очках. Очень похожий. И его задача – ностальгировать по детству. Например, по «Книге о вкусной и здоровой пище». Она так сильно привлекала маленького Йосю, что однажды он оказался внутри ее потрясающих картинок. Там он познакомился со Сталиным, который рассказал, из чего делают сардельки, и предупредил, что после его смерти в колбасные изделия будут засовывать целлюлозу. И советские граждане станут умирать от язвы желудка.
На такого рода ностальгию режиссер тратит так много сил и времени, что Бродский-поэт остается почти неохваченным. Так, пунктиром пересказаны времена, когда молодое дарование прибивается к гранд-даме российской словесности Анне Ахматовой. А сама гранд-дама, изображаемая Светланой Крючковой, появляется на экране только для того, чтобы загробным голосом предсказать ожидающий Бродского суд. Суд тоже покажут быстро, в основном, чтобы опять полюбоваться советскими психотипами – дураками и уродами. Без внимания останется и ссылка. Вместо нее в фильме появятся замечательные рисованные картинки, в которых Бродский изображается как грустный конь, везущий хвороста воз и погоняемый обнаженной красавицей. Вероятно, красавица символизирует Родину.
А заграничное житье-бытье, в том числе Венеция, о которой так много мечтал юный Иосиф, заменят фотографии и одна-единственная сцена в ресторане, где друзья-поэты травят анекдоты, аристократки изящно матерятся, а сам Бродский с большим достоинством исполняет «Очи черные». А когда окончательно набирается, звонит в Ленинград маме, чтобы уточнить слова советской песни. Одним словом, кабак. Хуже всего, что кабак реальный – съемки поющего Бродского документальны. Не удивительно, что из такой заграницы поэту у Хржановского больше всего хочется вернуться домой. Вот только непонятно, куда – родители умерли, полторы комнаты заселены другими, а любимый советский быт заполнен лексусами, наружной рекламой и равнодушными красавицами.
В общем, путешествия, или, вернее, возвращения на родину не состоялось. И не могло состояться в принципе. С другой стороны, за фразу Хржановского о том, что после чрезвычайного Съезда кинематографистов Никите Михалкову не поможет никакой проктолог, мастеру можно простить все, что угодно.
«Полторы комнаты» - очень добрый, интеллигентный и лиричный фильм. Вряд ли можно всерьез обсуждать его кинематографические достоинства, многое там, мягко сказать, не идеально, но дело не в этом. Фильм-путешествие по волнам памяти, в собственное детство, а не только и не столько в детство Бродского. Такие путешествия всем нам становятся нужны с определенным возрастом, который у каждого свой. Совсем юным с попкорном и пивом станет скучно, но это сугубо их проблемы. Всем остальным этот фильм стоит посмотреть, как мы смотрим дома, в промозглый сырой вечер какую-нибудь хорошую, «уютную» программу по каналу «Культура», когда после просмотра становится внутренне тепло и комфортно. Так и здесь. Стоит хотя бы посмотреть из-за бесконечно трогательных и кажущихся такими хрупкими Фрейндлих и Юрского с их фирменными интонациями, на которых многие из нас выросли. Стоит хотя бы посмотреть, чтобы вспомнить и свое детство, в котором несмотря на всю убогость быта так легко можно было быть счастливым. И Бог с тем, что диалоги в фильме, особенно с участием молодого Бродского, звучат подчас слишком натужно и фальшиво («Весь Тургенев, Чехов и Бунин не стоят одного рассказа Платонова»), что сам молодой поэт выглядит слишком уж банально и шаблонно, и что зачастую можно было бы избежать таких откровенно ожидаемых и предсказуемых включений лирики поэта («Ни страны, ни погоста», естественно, прозвучит, как и многое другое). Главное – в другом. Кто-то, посмотрев, вспомнит свое детство и своих родителей, кто-то же невольно будет повторять про себя «Плывет в тоске необъяснимой среди кирпичного надсада ночной кораблик негасимый из Александровского сада…». И в первом, и втором случае авторам «Полутора комнат» стоит сказать спасибо.
И, не склонный к простуде,
все равно ты вернешься в сей мир на ночлег.
Ибо нет одиночества больше, чем память о чуде.
Так в тюрьму возвращаются в ней побывавшие люди,
и голубки - в ковчег.

Надо же такому случится, я ведь практически ничего не знал об этом нобелевском лауряте: ну вертелись где то в сознании странные обрывки, вроде: «В деревне Бог живет не по углам…Лежал младенец, и дары лежали». Ну еще слышал, что он был не дурак выпить, устраивал пьяные загулы в советском Питере с Довлатовым, ну а потом продолжил в Венеции, которую сильно любил, где и упокоился с миром. Вроде как про это даже фильм есть документальный, типа «прогулки» называется. И вот представляете вроде этот поэт умер совсем недавно, а уже и фильм про него вышел в прокат: полнометражный художественный, на ограниченных показах которого можно еще встретить такой редкий ныне феномен, как «русскую интеллигенцию», или как говорят в простонародье, «бичей» (аббревиатура от «Бывший/Будущий [выбрать по желанию] Интеллигентный Человек»). снял его Андрей Хржановский, специалист по документальным короткометражкам и мультикам. Честно говоря, я и мои друзья смотрели его сквозь призму твердого ощущения, что это попытка культурного покаяния нашумевшего со своим скандальным фильмом «4» другого Хржановского, но тот–Илья. короче, хорошо, что ошибся:-))
в фильме использованы документальны кадры, превосходно нарисованные, немного в подражание Норштейну мультипликационные вставки (преимущественно про котов и птиц), ну и большая часть картины — игровое кино. Причем наиболее интересны художественно сделанные, не без помощи компьютера, интерполяции главных героев в «хроникальную» атмосферу Питера 30-х – 40-х годов, где маленький Йося ходит с папой на футбол, а потом в пивную, где встречает молодого Шостаковича:-)). Ну и к самым кошмарным кадрам стоит отнести очередную неудачную попытку воспроизвести в наше время атмосферу интеллигентской тусовки 60-ков. Выглядит очень натянуто и предвзято, но неужели нельзя в нашу эпоху найти подходящих рож??? Почему все должно превращаться в балаган, не такой ужасный как в фильме «Стиляги» или в бездарном «Бумажном солдате», но все же. Не понятно, что взято из дневников Бродского, а что авторы насочиняли.
К сожалению, из фильма Вы не узнаете, напр., как молодой Бродский работал помощником прозектора в морге при областной больнице, истопником в котельной, матросом на маяке, рабочим в пяти геологических экспедициях. В центре фильма лежит попытка воссоздать веселую атмосферу интеллигенской семейной трапезы, совершающейся во вражеском окружении злобного коммунульно-сталинского быдла. Но кроме родителей, уверенно сыгранных А. Фрейндлих и С. Юрским (пребывающими в фильме всегда в одном и том же возрасте, что по идее должно отражать неизменяемость родительского образа?), юный поэт делит пространство своей полторы комнаты, кроме родителей, еще и с котом, да так успешно, что вскоре кота становится в фильме слишком много, местами даже больше, чем самого Бродского:-)) доходит до того, что когда похотливый еврейский мальчик начинает водить в дом девиц, отгородившись от любящих родителей шкафом, кот чуть ли не принимает в этой пошлой жарке посильное участиеJ)
Странно, ведь была хорошая и серьезная советская школа документалистики, с ее продуманными сценариями, которая, кстати, и показала, что эксперименты по совмещению игрового и документального кино, за редким исключением, не проходят успешно. Здесь же такое впечатление, что сценарий писался одной ногой. Юрий Арабов просто записал обрывки своих снов, детских впечатлений: в результате в этом потоке сознания очень мало смыслообразующих скреп и уровней. Конечно, есть пару крепких моментов, но для цельной работы со смешением жанров нужно прекрасно владеть современными методами и приемами. В одном из сюжетов «живой» Бродский из документальной хроники вдруг отвечает на реплику художественного, но этот свежий прием как то зависает в общей тягомотной атмосфере непонятных повторов. Те же диалоги вымучены, во второй части фильма создается такое впечатление, что если уснешь, а потом минут через 10 проснешься –то ничего особо не пропустишь, попадешь в ту же самую повторяющую круговерть сновиденческих фантазий о возвращении. Но идея ведь фильма хорошая добрая: он об образе родителей и дома, к-рый, однажды потеряв раз и навсегда, каждый человек сохраняет внутри себя и пытается всю свою оставшуюся жизнь к нему вернуться.

Главное достоинства фильма - он не вызывает сопротивления. Несмотря на то, что я прекрасно помню, как ко мне пришло известие о смерти Бродского. Эта картина - разумеется, не байопик. Линейное повествование о Бродском невозможно.
Образ ткется по невесомой канве. Коты на парапланах, две вороны, обвязанные одним шарфом; невероятный шагаловский какой-то скрипичный исход: через ленинградские окна, по небу, за облака, в какие-то надмирно-теплые края. Идеальное решение для фильма такого жанра: акварельная анимация с намеком на Леонардо, благородство пожелтевшей бумаги. Парение. Полет.

И что им этот безобразный дом!
Для них тут садик, говорят вам – садик…
И если довелось мне говорить
всерьез об эстафете поколений,
то верю только в эту эстафету.
Вернее, в тех, кто ощущает запах.
Что видит зритель прежде всего? Любимый и взлелеянный – город. Он живой, и разный во времени (по векам, и десятилетиям, и временам года). Мы не въезжаем, а вплываем в него, – как и было задумано. И даже влетаем – вместе с кошками и ангелами. И видим застывшие в вечности точные силуэты Стрелки и Исаакия, и солнечные шестидесятые – пронизанную светом листву осеннего Летнего сада и интеллектуальную болтовню прямо-таки на «ивановской» крыше, и промышленный буксир на черной холодной дороге средь белой Невы… И «последние картинки» там тоже есть – мертвые дома вдоль Фонтанки, и огнистая сумятица ночного Невского, и изломанное отражение Медного всадника в тонированном стекле машины.
Петербург, который мы потеряли. Потеряли, собственно, в 1917-м году, о чем недвусмысленно говорит прекрасный анимационный эскиз. Изящные силуэты: гостиная в доме Мурузи, обстановка в стиле модерн, поэтический вечер, утонченность и декаданс… А затем – ворвавшийся грузовик с матросскими штыками: рушатся колонны, горят книги – и перед нами советская коммуналка с ее «пещерным бытом» и не менее пещерными обитателями.
Редкие кадры хроники (вроде тех, где пленные немцы наряжают елку) настолько органичны в этом потоке воспоминаний, что невозможно уловить границу монтажа. И мы видим не актеров, а настоящих людей, совершенно естественно проживающих экранные эпизоды своей реальной жизни. В этом смысле фильм пропитан воздухом Тарковского. Пустая комната, в которой звонит телефон. Книги. Естественные дети.
Культура – вещь более живучая, чем лепнина и дубовые панели. На нашем поколении закончилась культура, – говорит Бродский в фильме. Остался отпечаток громадного моллюска. И свои сокровища город-моллюск выбрасывает к ногам мальчика из глубины небытия, подобно осмеянной ильфом-и-петровым «Мужчине и женщине» (как говорил Васисуалий Лоханкин, «спасти успел я только одеяло, и книгу спас любимую притом»).
10 лет снимали фильм. Он выношен и рожден прекрасным.
Он многозначен, как интересная беседа, которая – не знаешь, куда приведет, но ждешь затаив дыхание. Мысль о родителях, звучащая словно пульс, словно камертон. Социализм и классицизм, еврейство и всемирность – временное и вечное, родное и вселенское. И тем не менее, всё это – одна-единственная тема-мысль-образ…
Это всё – Бродский. И это любой из тех, «кто ощущает запах». В ком, словно в раковине моллюска, есть эта драгоценная жемчужина – зерно красоты и культуры.
И как же всё это сделано?
Андрей Хржановский – аниматор, и может быть поэтому он сумел не испортить свой фильм словами. Часто он обходится и вовсе без них. Прелестны мимические сцены с их тонкой иронией. Античный бюст, выразительно взирающий на бюст Сталина (их несут мимо по коридору). Взгляды Бродского-папы и Бродского-мальчика на идущих мимо женщин.
Как трогательны две вороны, реинКАРнация родителей поэта. Они, конечно, дрессированные, а кроме того еще и мультяшные, и поэтому прелестно танцуют свой Случайный вальс а-ля Белоусова и Протопопов (ленинградцы, тоже разделившие судьбу эмигрантов), пока один из них не падает, хватаясь за сердце.
Ожившая Книга о вкусной и здоровой пище с лицом грузинской национальности в роли шеф-повара потрясает воображение. И в Норенской скачет Бродский-Пушкин – как ломовая лошадь, превращающаяся в Пегаса. Даже в пустой коробке от папирос можно найти вдохновение…
А когда в предчувствии скорого «переселения народов» родители продают пианино, оно улетает на веревках вверх и присоединяется к стае себе подобных. Музыкальные инструменты покидают город под жалобную еврейскую мелодию и улетают усталым клином в теплые края – не в Биробиджан, конечно, а в Израиль.
Но и помимо анимации есть неожиданные авторские ходы – классические и не очень. Мы не то что прикасаемся к времени – оно хватает нас за рукав, спрашивая: третьим будешь? Шостакович в пивной, на фоне ернических строчек из «Представления». Сцена с Ахматовой в ее шереметевском флигеле, где молодые люди гэбэшного вида начинают произносить протокол допроса Бродского. Дальнейшее – вполне документально.
В целом текст любовно собран – отовсюду. И так же любовно впитан и присвоен. Только крупный мастер мог позволить себе подобное обращение с материалом. А может, здесь не один Гельвеций виноват? И проложил свою руку сценарист Юрий Арабов? И оператор Владимир Брыляков?
Режиссер предупреждает: это не биография поэта, не ищите хронологию. Но она есть. Река времени возвращается к своим истокам. Замыкает это изящное рондо эпизод у решетки Летнего сада – не той, парадной, с Невы, а той, что с Фонтанки, возле Пантелеймоновского моста, ведущего к родной улице Пестеля. Вернувшийся на круги своя поэт стоит возле головы Медузы Горгоны – там, где ребенком гуляя с отцом, вытряхивал камушек из сандалии. Элементарная реальность, приобретающая вечный смысл.
Сколько таких камушков еще там лежит?

Гениально всё - игра и великих, и хороших актеров, и режиссура, и операторская работа, и простите, "саундтрек" (звуки, отзвуки и призвуки), и переходы из сегодня в 60-е, от этого Бродского к тому, фраза "А давайте еще споём!". Я давно не слышал настолько замерших в пронзительном молчании зрителей, посещающих публичные кинотеатры.

Опираясь на произведения самого Бродского, в первую очередь на его эссе, Хржановский попытался наподобие этого литературного жанра выстроить форму собственного фильма. На первый план выходит не столько само время – через биографию героя — сколько образы той или иной эпохи. Для маленького Оси сталинское время – это фотографии кулинарных блюд в книге о вкусной и здоровой пище вместо завтрака. Оттепель показана через раскрепощенность, с которой молодой Бродский приводит в свои полкомнаты знакомых девушек. Начало перестройки – подлинные кадры вечеринки, снятые на любительскую камеру. Причем игровые эпизоды для каждого времени стилизованы по-своему. В 40-е это размытая черно-белая пленка, короткие монтажные куски. В 60-е – сцена вечеринки, которая снята длинными планами и напоминает похожий эпизод из «Заставы Ильича».
Несмотря на то, что сюжет выстроен в хронологическом порядке (в отличие от самого авторского эссе), структура фильма то и дело ломается. Эпизоды жизни Иосифа Бродского зачастую перебиваются анимационными фантазиями: о коте (своеобразном эго поэта), об истории или о восприятии Петербурга. Зачастую представления о советском быте фантасмагоричны: коммунальная квартира предстает в глазах героя в образе первобытной пещеры, в которой «кастрюли и сковородки свисают над газовыми плитами подобно тамтамам».
За кадром не бывает тихо. Вперемежку с полифонией Баха звучит голос Бродского, с характерным выговором, со взлетающими интонациями, что добавляет фонограмме музыкальности. Усилиями сценариста Юрия Арабова высказывания разных лет из разных произведений собраны в почти связный текст, результатом которого является еще один образ – образ Бродского-рассказчика.
Андрей Хржановский, ровесник Бродского, признался, что посвящает фильм «нашим родителям». Это слово, «наши», объединяет мировосприятие целого поколения интеллигенции, а слово «родители» — выдает ту ностальгию, которая и является основным привкусом «…Сентиментального путешествия на Родину». Сюжет фильма выстроен вокруг истории дома на Литейном, на открытии которого в 1903 присутствовала Анна Ахматова, в котором во время революции жили Гиппиус с Мережковским, а после войны обосновалась семья Бродских. Опустевшая же, разоренная квартира – это аллегорический конец истории, вернее, ее весомой части. «Две вороны тут, во дворе у меня за домом в Саут-Хадли. <…> Здесь они появились поодиночке: первая — два года назад, когда умерла мать. Вторая — в прошлом году, сразу после смерти отца». Родителей Бродского играют Фрейндлих и Юрский, которые почти не меняются в течении всего фильма. Это все та же ностальгия плюс очередной образ – субъективное восприятие героя: «Какими я их запомнил, такими они и оставались всегда».
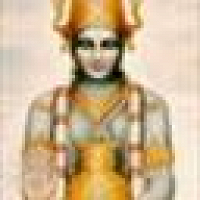
Только что посмотрел и не смог сдержаться, чтобы скрыть восторг.
Восторг! Я понял о каких "слезах" говорил А. Герман в своём отзыве на эту картину.
Я чувствовал их сам эти слёзы. Какая всё-таки редкость, такое трогательное, искреннее и душевное, почти что свойское повествование от лица Гения.
На одном дыхании смотрел "Полтора Кота", и вот теперь случайно нашёл эту картину. Автор в своём же неповторимом стиле. Восторг! Буду смотреть ещё, буду рекомендовать, буду опять восхищаться.
Конечно, каждый волен самовыражаться, как угодно. И я бы тоже с удовольствием повыставлялся в рецензии на фильм. Но в данном случае мне кажется более важным посоветовать людям, любящим хорошее кино, и тем более людям, знающим кто такой режиссёр Хржановский (на всякий случай мини-справка - один из лучших аниматоров в истории этого вида искусства), не полениться дойти до кинотеатра 5 звёзд на Новокузнецкой и посмотреть этот фильм. Даже если они не поклонники творчества Бродского, и не знатоки его биографии.
Возможно знакомство с предыдущими фильмами Хржановского тут важнее. Кстати, в субботу была встреча с режиссёром. Выслушав восторженные отзывы друзей-киношников, друзей просто и просто зрителей, он попросил тех, кому фильм понравился, рассказать о нём другим, чтобы люди пришли в этот единственный кинотеатр в Москве на единственный сеанс. Директор кинотеатра в свою очередь пообещал, что фильм будут показывать до конца апреля точно.
Не гарантирую, что вы будете в восторге. Но такой фильм просто нельзя пропускать!
Моё мнение? Я был очарован. Талантом, изобретательностью, свободой, иронией, лирикой... Перечислять дальше?
Это как бы два фильма в одном:
Один - про Петербург и художественные фантазии Хржановского. Он красив и по своему интересен.
Другой - о Бродском. Он чудовищно фальшив. И дело тут не в фактах, а в интонации.
...Сравните хотя бы как читает свои стихи сам Бродский (в фильме это есть), и как читает их актер - и задайтесь вопросом, почему Бродский читает их именно так...
А можно ли вообще сыграть творца, если талант это высшее проявление индивидуальности? Зачем копировать внешность и манеру речи, как будто это и есть суть, если главное все равно ускользает и остаются только гримасы актера, смотрящего с экрана задумчивым взором гения и курящего в многозначительной молчаливости? Мне жалко Смолу и Дитятковского - перед ними изначально стояла самоубийственная художественная задача. Актерам второго плана повезло больше.
Конечно, если вы не читали ни стихов ни эссе, даже такой фильм может оказаться вам полезен. Но если творчество и биография Бродского вам уже хорошо знакомы, то все новое, что вы вынесете о нем из просмотра, это 2-3 минуты документальных кадров, запечатлевших поэта, поющим Очи Черные в ресторане во ходе дружеского застолья - не так уж и мало, конечно, но остальные 127 минут покажутся вам в этом плане лишними.