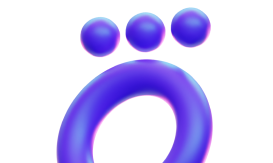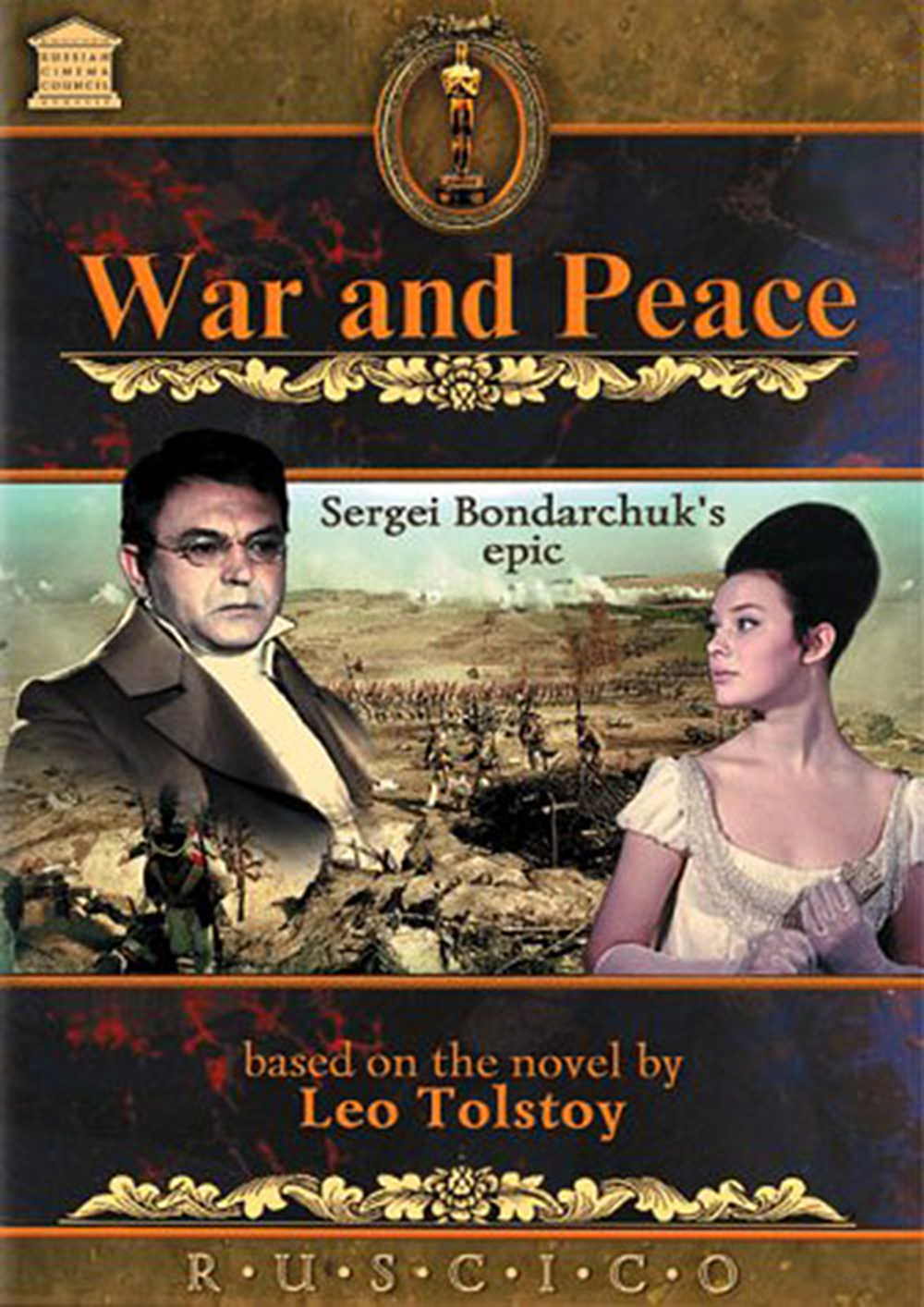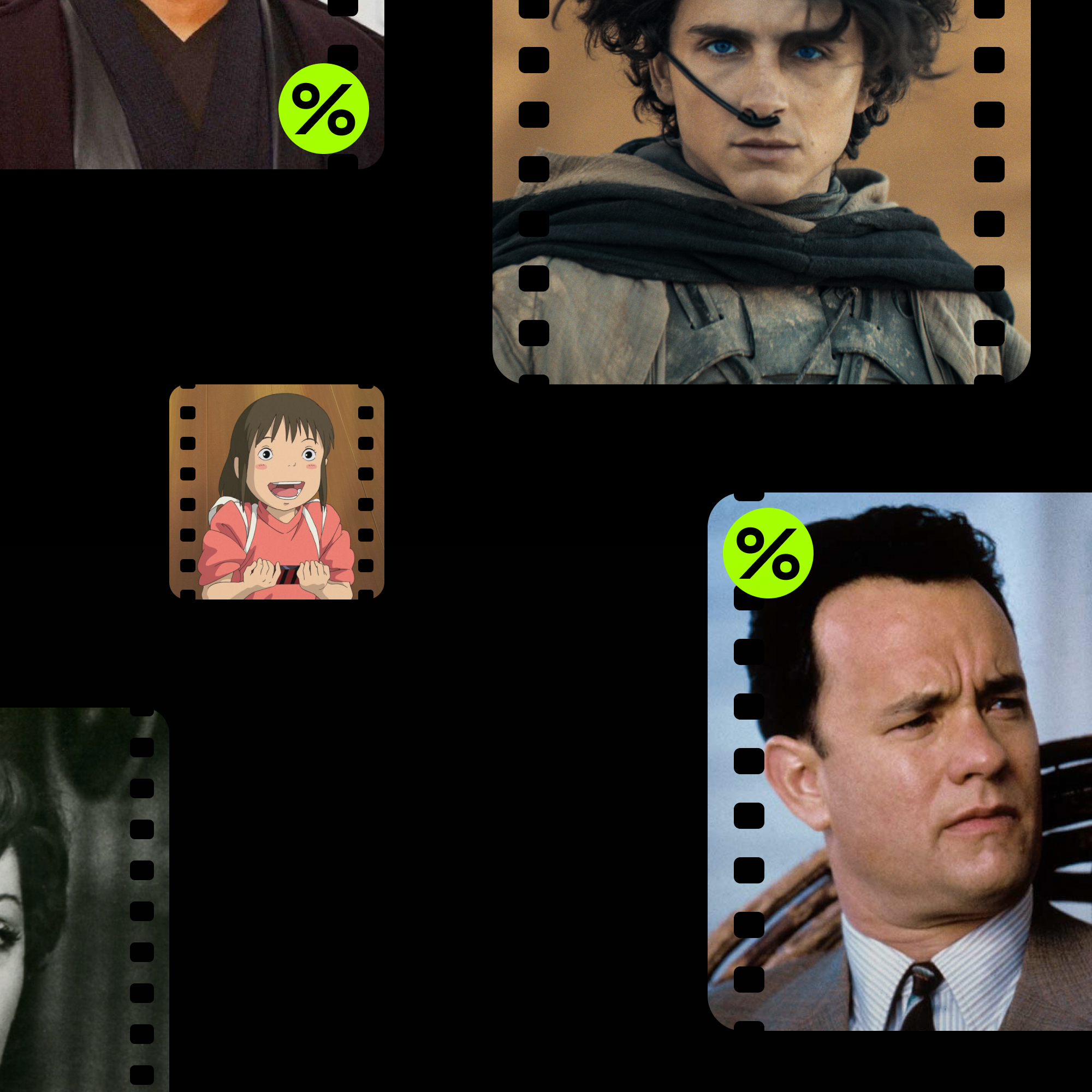Фильм Красные колокола: Я видел рождение нового мира
I Dieci giorni che sconvolsero il mondo, СССР, Мексика, Италия, 1982
| Драма |
| 12+ |
| Сергей Бондарчук |
| 18 октября 1982 |
| 2 часа 19 минут |
Другие фильмы Сергея Бондарчука
Участники
Читайте также
Рекомендации для вас
Популярно сейчас
Как вам фильм?
Рецензия Афиши

«То были гиганты с невинными детскими глазами, с лицами эпических воинов». Такими увидел и описал в своей книге «10 дней, которые потрясли мир» солдат революции, матросов и вооруженных рабочих Петрограда, американский журналист Джон Рид, высадившийся в сентябре 1917 года в России, чтобы создать репортаж о самом колоссальном событии века и остаться здесь навсегда, похороненным в Кремлевской стене. «Я видел рождение нового мира» — это финальная часть дилогии о Джоне Риде «Красные колокола»; в основу положены события Великого Октября, какими их увидел и запротоколировал Рид. Протокол — верное слово; если его книга «Восставшая Мексика» была пронизана романтическим духом 26-летнего молодого мужчины, на глазах которого впервые вершилась История, то «10 дней» — произведение 30-летнего опытного революционера и бывалого журналиста, который сжег за собой все мосты: в своих публикациях он начал пропагандировать взгляды столь радикальные, что крупные американские издания его уже не печатали, а некоторые небольшие, левой направленности, даже были закрыты правительственным указом именно из-за статей Рида. «10 дней» — не восторженный взгляд на красивое движение вооруженных масс; это сухой и отлично документированный отчет о свершившемся факте социалистической революции: Рид зачастую приводит целиком речи партийных лидеров, членов Временного правительства и большевиков, оставляя их вовсе без комментария, стыкуя друг с другом в хронологическом порядке. Две части фильма Бондарчука отличаются друг от друга тем же, чем две книги Рида. Если зеленая, голубая, песочная, абрикосовая «Мексика в огне», снятая среди мексиканских равнин, красот Флоренции, небоскребов Нью-Йорка, заряжена порохом романтического порыва, то «Я видел рождение нового мира» о темном и холодном ноябрьском революционном Петрограде — поздняя осень 1981 года, когда снимались сцены взятия Зимнего, также выдалась пронизывающей до костей — фильм-документ, фильм-репортаж. Хотя камера оператора Вадима Юсова («Солярис») по-прежнему награждена орлиным оком, способным и с высоты птичьего полета в толпе бегущих шинелей разглядеть взволнованный взгляд, растрепанный локон, отчаянный жест, все же фактура сурова. Но это фактура подлинная — картина Бондарчука стала первым и единственным фильмом, где события 7 ноября 1917 года восстановлены скрупулезно и достоверно, поэтому мы и выбрали именно ее для показа в канун 90-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Что необычного, по сравнению с бесчисленными советскими фильмами о штурме Зимнего и Ленине на броневичке, показал Бондарчук, лучше пусть расскажет сам режиссер. Предоставим слово ему:
«Я очень люблю фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь». Смотрел его много раз. Это удивительная картина. Если бы ее не было, история нашего кинематографа была бы неполной. Но, несмотря на то, что фильм сделан почти по свежим следам революции и еще были живы ее многие участники, политические страсти того времени, когда она создавалась, наложили на нее свою тень. Это — первое. Второе — в силу ряда обстоятельств в картине имеется ряд исторических несоответствий. Это, если мне не изменяет память, признавал и сам Эйзенштейн. Одно из таких несоответствий следующее: когда во время штурма солдаты и матросы врываются в Зимний, то у Эйзенштейна, а затем и у Ромма и у тех, кто за ними снимал фильмы о революции, штурмующие врываются на главную лестницу, парадную. Она, конечно, эффектная, кинематографически выигрышная, вся такая ажурная, высокая, красивая. Но в то время эта лестница вела непосредственно в госпитальные палаты. И это знали в рядах штурмовавших.
Показывать госпиталь, устроенный в Зимнем с соизволения царя еще в 1914 году, то есть в самом начале мировой войны, в 1927 году и даже десять лет спустя было, наверное, не очень кстати. Но госпиталь-то был в Зимнем! И там лежали тяжело раненые солдаты и офицеры. И я показал этот госпиталь впервые в кино. А зачем? Ну, не для того же, конечно, чтобы сказать: вот какой добрый был царь. Там такая драматургия была в то время, что хоть сто лет думай – не придумаешь. Ну представьте! Тут штурм, врываются солдаты, матросы, а в госпитале в это самое время идет сложнейшая операция. Чистота нужна, стерильность, максимум собранности, а тут выстрелы, рев толпы, к тому же гаснет электрический свет. Мрак и борьба за жизнь. При свечах, при керосинках продолжается операция. Вот как жизнь столкнула в одном месте судьбу революции и жизнь конкретного человека. Вот где драматургия! Можно целый фильм сделать на одном этом материале. Солдаты и матросы госпиталь обошли. Им другое было нужно — Временное правительство. Разве это не проявление гуманизма революции? Разве это не живой пример высокой нравственной силы солдат революции? Как же это можно было не показать!
Ну а что касается главных исторических событий, то они происходили на другой лестнице. Она поменьше, не так выигрышна в кино. Сейчас называется «Октябрьская». Вот ее-то мы и снимали, показывая, как штурмующие врываются в Зимний. Мелочь? Нет, исторический факт.
Я понимаю, что есть правда истории и правда искусства, но, снимая фильм о нашей революции, я больше стремился к соблюдению исторической правды.
Вот еще пример. Даже в музеях показывают: залп «Авроры», штурм Зимнего, и Ленин выступает на Втором Всероссийском съезде Советов. Все же не так было! Действительно, был залп. Но не холостой, как о том пишут. Снаряд попал в здание Зимнего, и Временное правительство вынуждено было перейти из малахитового зала, где заседало, в небольшую комнатушку — столовую. А малахитовый зал, который никто не снимал до нас, мы тоже показали. Это же история, подлинный факт. Опять же, скажут, Бондарчуку все дозволено. А я снимал в этом зале, лично дав стопроцентную гарантию того, что ни одна малахитовая пластинка не пострадает. В зале почти не было осветительных приборов. Юсов свет подавал со двора, с высоких таких вышек, через окна…
Или вот еще пример. Зимний должен был быть взят к открытию Второго Всероссийского съезда Советов. Но взят не был. Ленин потому и не пошел на съезд. Он не был там в первый день работы съезда и весь день занимался главным образом штурмом Зимнего. И только на второй день, когда Зимний был взят, а Временное правительство арестовано, Ленин выступил на съезде…
У меня в картине все рассчитано по часам, по минутам. Это адова была работа. По этой картине можно историю нашей революции в школах изучать. В ней все соответствует действительности. И снимали мы в тех же помещениях, где происходили исторические события.
Я только в одном допустил неточность. Я сознательно преувеличил в картине количество красного цвета. Потому что вслед за бескровной революцией в России разворачиваются такие события, такой трагедийный накал они обретают в нашей истории, что я не мог не воспользоваться метафорой. В этом красном цвете кумачей кровь и прошлых восстаний, начиная со Спартака, моего любимого героя, и будущих трагедий».
Возвращаясь к Джону Риду — в этой поездке у него была очаровательная и бойкая спутница, суфражистка и начинающий журналист Луиза Брайант, чей собственный отчет об Октябрьской революции «Шесть красных месяцев в России», а также последовавшая в 1923 году книга о становлении социализма в Средней Азии «Зеркало Москвы», войдут в число самых дельных и талантливых литературных свидетельств становления Страны Советов. «Кажется, я наконец-то нашел ее. Она дикая и храбрая и прямолинейная, а ее грациозность и милый облик — отрада для глаз. Любительница всех приключений духа и разума, ни в ком не находил я столь ледяного презрения к стабильности и оседлости. Противиться быть привязанной или привязывать самой… И в этом духовном вакууме, на этой неплодородной почве она выросла (как, не представляю) художником, радостным, оголтелым индивидуалистом, поэтом и революционером», — писал о Брайант (на два года старше его) Джон Рид, возвращаясь в Нью-Йорк в канун Нового 1916 года с каникул, проведенных у родителей в Портленде. Брайант же влюбилась в Рида, еще даже не видя его. Жена белокурого красавца-дантиста, которого буйными и неизменно пьяными вечерами она непременно уговаривала пустить в его кабинет понюхать эфиру, однажды, следуя портлендским автобусом, так зачиталась статьей Рида в «Метрополитене», что проехала свою остановку. Она вышла на другом конце города с журналом под мышкой и чувством, что в ее жизнь пришла большая любовь. Они впервые увиделись летом 1914-го. Когда Рид строчил то восторженное письмо о Брайант своему другу в поезде Портленд—Нью-Йорк, он оставил ей билет на восточное направление с открытой датой. 1916-й они уже встречали вместе.
Поскольку оба исповедовали свободную любовь, их первое лето совместной жизни — в коттедже, который они сняли в Провинстауне, где каждый готовил к постановке собственную пьесу для устроенного здесь театрального фестиваля, — они провели втроем с драматургом Юджином О’Нилом: между ним и Брайант разгорелся роман. Однако в ноябре 1916-го Рид и Брайант связали себя узами брака, и в Петроград прибыли уже как муж и жена. После смерти Рида Брайант удачно вышла замуж за богатого дипломата, в 1910-е годы занимавшего один из руководящих постов в кабинете президента Уилсона, однако ее лесбийская связь с английским скульптором Гвен Ла Гальен, ставшая притчей во языцех, когда семья переехала в Париж, послужила в 1930 году причиной развода и даже официальной, вытребованной мужем через суд, отмены родительских прав Брайант, включая полный запрет на ее контакты с дочерью. Она умерла во Франции в 1936 году.
Роль Луизы Брайант исполнила, пожалуй, самая бесподобная авантюристка послевоенного шоу-бизнеса — Сидни Ром. Когда шел «эротический» 1969 год, эта 18-летняя дочка пластмассового магната из Огайо рванула в Италию. Не прошло и пары месяцев, как красавица – стружка солнечных волос, прозрачные глаза-хамелеоны, оборачивающиеся то зеленью Доломитских склонов, то лазурью Адриатики, — получила роль в кино: робота в фантастической элегии Марчелло Алипранди «Жестяная девушка». А вскоре сам Роман Полански снял ее в своем единственном итальянском фильме «Что?» — современной эротической версии «Алисы в стране чудес», где ее американская туристка, путешествующая автостопом, оказывается в пансионате, где мужчины во главе с Марчелло Мастроянни воруют ее вещи, пока она не остается совершенно голая. Такой же оказалась и ее экранная судьба – вечно недоодетая, легкой поступью «греческой смоковницы» прогулялась она по краешку европейского кино 70-х, отметившись у таких мэтров как Шаброль («Безумия буржуазии») и Клеман («Приходящая няня»), сыграв с Делоном («Раса господ») и Жирардо («Жить надо с риском»), спев и сплясав (без бюстгальтера) с Дэвидом Боуи и Марлен Дитрих в «Просто жиголо», в основном же довольствуясь спагетти-вестернами и дурацкими секс-комедиями. Но даже в какой-нибудь полной ерунде, вроде «Секса с улыбкой» Серджо Мартино, где весь фильм любимый пес ее героини не дает приблизиться к хозяйке мужчинам, стоит Ром улыбнуться – и на целлулоиде остается отпечаток воплощенной мечты. В 1973 году она осела в Италии навсегда, выйдя замуж за местного. Ее хрипловатый вибрирующий голос — одно из чудес европопа; хит «Angelo prepotente» («Ангел во плоти») — возможно, самая романтическая песня-посвящение мужчине из когда-либо записанных. Когда в начале 80-х продюсер Кристальди отрядил ее в Ленинград играть в «Красных колоколах», она — небывалое дело — появилась одновременно на обложках итальянского «Плейбоя» (без ничего) и «Советского экрана» (в шубе и шапке). Советские школьники времен перестройки хронически опаздывали в школу из-за ее галлюциногенного номера «Hearts» («Сердца»), которым около девяти утра, как «Отче наш», заканчивал свое вещание канал «С добрым утром!», а ее курс по аэробике 1983 года, для которого Фрэнк Фариан специально переаранжировал написанные им для Boney M хиты, полностью скопировала наша первая ведущая аналогичной телепрограммы Лилия Сабитова.
Когда автор этих строк готовил статьи к показу дилогии Бондарчука, он набрел на дневниковую запись журналиста и реформатора Линкольна Стеффенса, который первым ввел Рида в богемно-журналистские круги Нью-Йорка, о его первых впечатлениях от юного Джона, только что прибывшего из Гарварда. Ею мне бы и хотелось закончить этот материал. Итак, вот какое зрелище предстало глазам Стеффенса в 1913 году: «Когда объявился Джон Рид, большой и все еще растущий, красивый снаружи и прекрасный внутри, когда этот мальчик приехал в Нью-Йорк, мне показалось, что прежде я и близко не видел ликованья столь чистого. Ни один солнечный луч, ни один мыльный пузырь, ни одно молодое животное, птица или рыба, ни одна звезда не излучали того счастья, что этот мальчик. Если бы только мы смогли сохранить его таким, у нас бы наконец появился поэт, который бы видел повсюду и воспевал одну радость и ничего боле». Но они не смогли, и почему – догадаться несложно: большой капиталистический город, каким был Нью-Йорк 100 лет назад, в принципиальных вещах мало чем отличается от сегодняшней Москвы.