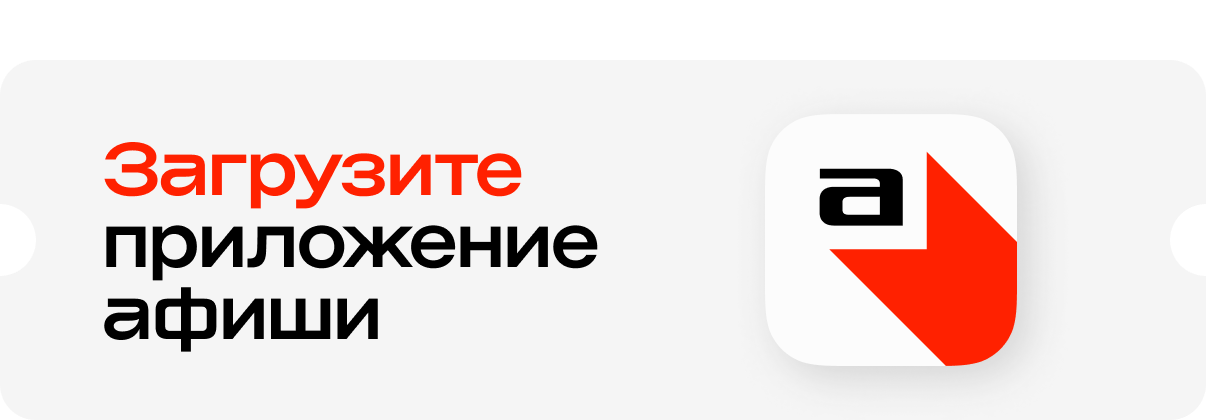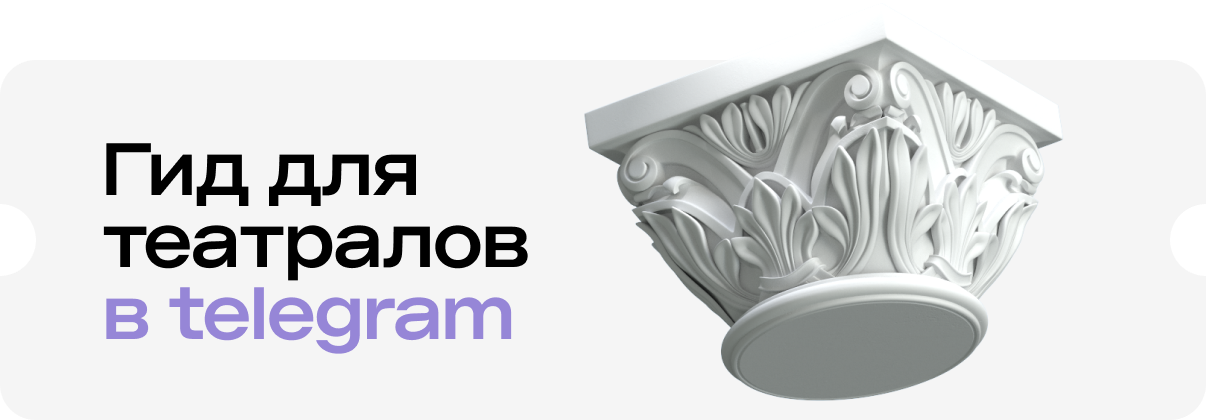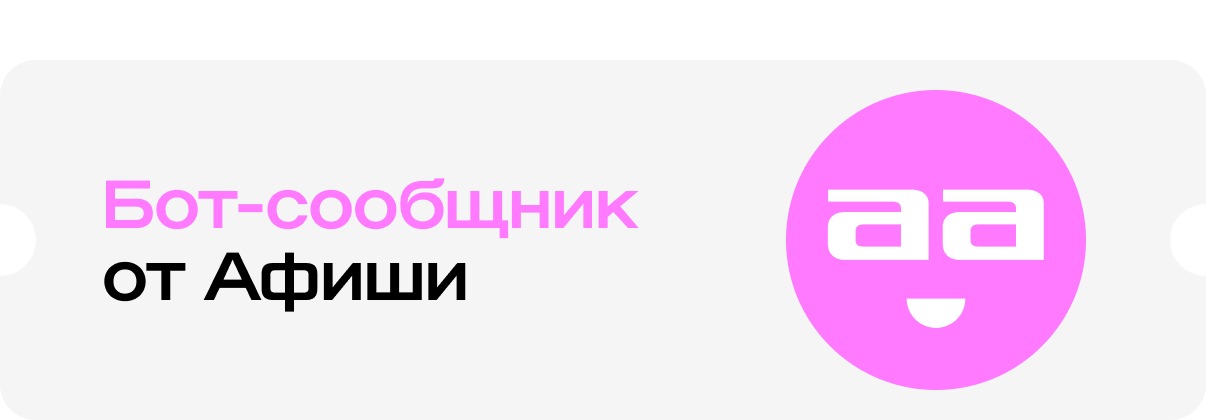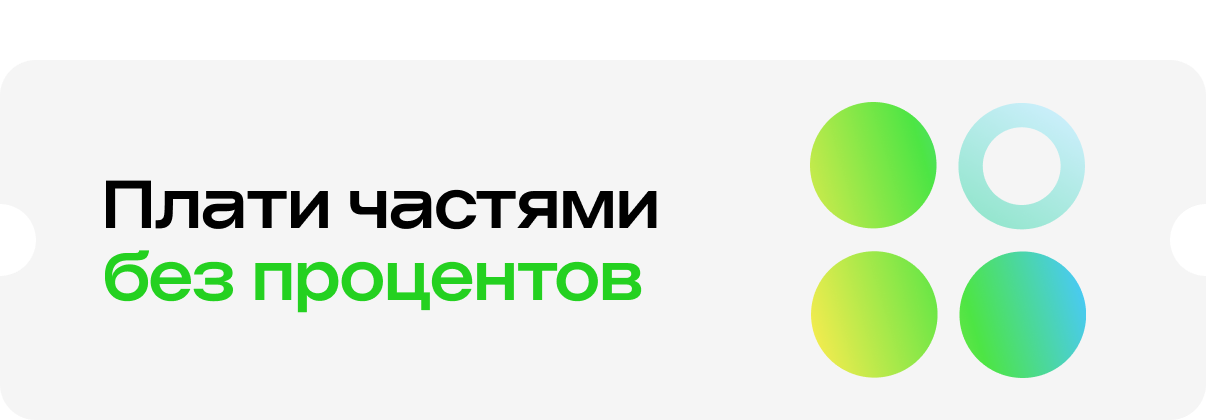| Балет |
| 12+ |
| Миллисент Ходсон |
| 9 июня 2003 |
| 40 минут |
Как вам спектакль?
Рецензия Афиши

В Мариинском снова весна — на музыку Игоря Стравинского, в хореографии Вацлава Нижинского, премьера 1913 года, расколовшая балетную историю на «до «Весны священной» и «после». Обычно такие произведения, что когда-то повернули русло истории (неважно, балет это, кино или литература), не то чтобы большое удовольствие смотреть (читать, слушать), они не про удовольствие вообще: они не ласкают глаз — они бьют в него кулаком. Могут и бритвой полоснуть, как «Андалузский пес», например. По-другому история, к сожалению, не поворачивается. Собираясь на спектакль, будьте готовы к тому, что мило вам не покажется.
«Весна священная» в 1913 году вынесла в театральный зал не только новую эстетику, своего рода антибалет (как есть антивещество в физике), но новую эротическую игру между публикой и зрелищем, где зрителю уготована роль мазохиста, балансирующего на грани страдания и наслаждения. Учтите, конечно, что это все-таки 1913 год и нам эти их штуки сейчас кажутся довольно невинными. Но в 1913 году скандал был страшный. На премьере зрители орали так, что не слышно было музыки: танцовщикам считали ритм из-за кулис. Впрочем, танцовщики и сами не то чтобы ловили кайф: Вацлав Нижинский придумал им поступь, вколачивающую ритм в доски пола, прыгать приходилось на прямых ногах со стопой утюжком — попробуйте сами, каждый прыжок выбивает позвоночник. Одели участников в страшные бесформенные рубахи и корявые лапти, нацепили им косматые бороды, парфюмерным балетным пейзанством тут и не пахло. Но чего еще хотеть от балета, главное событие которого — человеческое жертвоприношение земле, в котором извивающуюся солистку косматый кордебалет (странно, впрочем, называть это человекомясо кордебалетом) кончает на глазах почтеннейшей публики. Как вспоминала потом солистка премьеры, прозябая много-много лет спустя в советской коммуналке на Лиговке: «Я сама действительно боялась».
Это был авангард в чистом виде, отменяющий в лице классического балета историю как таковую. Но история свое взяла и дописала к «Весне священной» нужный контекст, подтекст, гипертекст и все такое прочее. Причем не тянула с этим. Через четыре года после премьеры «Весны священной» грохнула русская революция, а потом и Гражданская война, и страшное косматое нечто, которое клубилось под тонкой пленкой великой русской культуры, увидели теперь уже все, а не только избранные зрители элитарной парижской премьеры. К сожалению, в отличие от парижской публики эти-то не могли просто встать из кресла, забрать в гардеробе пальто и выйти из театра (хотя у почти трех миллионов эмигрировавших, кажется, получилось). «Весна священная» в 1913 году не вызвала демонов, она раньше всех почувствовала их приближение.
Отзывы

Культовое произведение, которое произвело фурор во все театрально-танцевальном мире и грубо говоря, разделило все пространство на «до» и «после». Практически каждый современный постановщик, так или иначе, обращается к теме «Весны священной», это как для театра Чехов.
Действительно сильное произведение и его мощь познать не так-то просто, честно до меня дошло не с первого раза, но именно в этот заход я оценила всю значимость и силу происходящего. В Мариинском театре хореография Миллисента Ходсона по мотивам хореографии Вацлава Нижинского.
Данный балет приближен к первоисточнику и по либретто, и по костюмам и по хореографии и пожалуй это основная и большая ценность.
В основе либретто языческая зарисовка жертвоприношения молодой девушки, как символ зарождения нового.